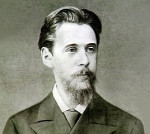Опыт построения целостной богословской системы естественнее ожидать от александрийцев, где уже во II веке была открыта богословская школа — знаменитое Огласительное училище. После кончины Пантена в 190 году его возглавил Тит Флавий Климент. Этот выдающийся богослов родился в Афинах в середине II века в языческой семье. После обращения и крещения он много путешествовал в поисках наставника духовной жизни по южной Италии, Сирии и Палестине. Приехав в Александрию, он поступил в ученики к Пантену, а потом и сам преподавал в Огласительном училище. В начале III столетия, когда начались гонения, развязанные Септимием Севером, Климент удалился из Египта в Каппадокию вместе со своим учеником Александром, который впоследствии занял Иерусалимскую кафедру. В эту пору Климент стал пресвитером, как это видно из послания Александра, адресованного Антиохийской Церкви: «Эту грамотку я переслал вам, братья и господа мои, через Климента, блаженного пресвитера, человека хорошего и почтенного». Тит Флавий Климент Александрийский преставился до 215 года.
Вы здесь
Статьи
Дать ли сказкам индульгенцию? (Диакон Андрей Кураев)
«Если бы в кресле лежала невидимая кошка, оно казалось бы пустым.
Оно пустым кажется. Следовательно, в нём лежит невидимая кошка»
Разгромить легко. Достаточно любой детской книжке и игре задать вопрос: «А одобрил бы это преподобный Иосиф Волоцкий?». Ну, конечно, не одобрил бы. Средневековая культура вообще не интересовалась ребенком, рассматривала дитя просто как маленького взрослого. И основу ее библиотеки составляли книги, написанные монахами и для монахов. Великие книги. Мудрые советы. Но в итоге, как оказалось, христианскую педагогику нельзя импортировать из средневековья: ее просто там не было. И приходится разрабатывать ее сейчас — совмещая наработки светской педагогики и возрастной психологии XX века с этикой древнего Православия.
«Мифическое» и современное научное мышление (Н. Лосский)
Первобытному человеку присуще миропонимание и даже восприятие мира, которое можно назвать мифическим. Современные исследования, среди которых первое место принадлежит трудам проф.
Наконец, религиозное миропонимание, не только примитивное, но и высококультурное, выражающее свое содержание в утонченных философски разработанных понятиях (напр., христианское), сохраняет многие черты, присущие мифическому мышлению о мире.
Юрий Тынянов: «Где кончается документ, там я начинаю»
Юрий Николаевич Тынянов родился 18 (6) октября 1894 года в городе Режице Витебской губернии. «Часах в шести от мест рождения Михоэлса и Шагала и в восьми от места рождения и молодости Екатерины I», — писал он позже о своей родине в «Автобиографии».
Учеба началась с девяти лет, когда Юра Тынянов был принят в Псковскую гимназию. В 1912 году он поступил на
В начале века университет был в буквальном смысле центром культурной жизни Петербурга: многочисленные семинары, кружки, множество молодых и маститых ученых, которых позже стали называть золотым поколением русской науки. Семинары Венгерова, которые посещал Тынянов, он позже назвал «скорее литературным обществом, чем студенческими занятиями». В это время в университете читали лекции А. Шахматов и. Бодуэн де Куртене, посещать которые считалось едва ли не признаком хорошего тона. Остается лишь позавидовать студентам того времени…
Бог присутствует инкогнито (Марина Бирюкова)
Книга рассказов Юрия Казакова «Старый дом» издана в серии «Современная православная проза»; на титульном листе стоит благословение Святейшего Патриарха Алексия II. Почему так?.. Писатель Казаков умер в 1982 году, и никаких сведений о приверженности этого писателя Церкви вроде бы нет…
«Пахло галочьим пометом и сухим деревом, было темно, но чем выше, тем становилось светлее и воздух чище. Наконец Агеев выбрался на площадку колокольни. Сердце его слегка замирало, ноги ослабли от ощущения высоты. Сперва он увидел небо в пролеты, когда выбирался из люка на площадку — небо наверху, с редкими пушистыми облачками, с первыми крупными звездами, со светом в глубине, с синими лучами давно затаившегося солнца. Когда же он взглянул вниз, то увидел другое небо, такое же громадное и светлое, как верхнее: неизмеримая масса воды вокруг, до самого горизонта, во все стороны, сияла отраженным светом и островки на ней были как облака. Агеев как сел на перила, обхватив рукой столбик, так больше и не шевельнулся до темноты…
— Где ты был вечером? — спросила Вика.
Хемингуэй: перевод с американского (Виктория Шохина)
21 июля 1899 года родился Эрнест Миллер Хемингуэй. Самый знаменитый писатель США
Хемингуэй — звезда мирового масштаба. He-man, Папа Хэм. Его слава не знала границ. Его книги цитировались, как Новый Завет. Его жизнь обсуждалась на каждом (литературном) перекрёстке. Его именем называли рестораны и бары. В Советском Союзе культ Хэма возникал дважды: в чугунные 1930-е и бархатные 1960-е.
Короткие, рубленые фразы в диалогах. Врезающиеся в память максимы: «Человека можно уничтожить, но нельзя победить»; «Что мешает писателю? Выпивка, женщины, деньги и честолюбие. А также отсутствие выпивки, женщин, денег и честолюбия»; «В постели все одного роста»; «Богатые — скучный народ… Скучные и все на один лад»; «Все боятся. Только матадоры умеют подавлять свой страх»; «Жизнь — это вообще трагедия, исход которой предрешён»; «Мужчина не имеет права отдавать богу душу в постели. Либо в бою, либо пуля в лоб». И т.д.
Максимилиан Волошин: жизнь, творчество, контакты (З.Давыдов, В.Купченко)
Горька судьба поэтов всех времен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию…
В.Кюхельбекер
Эти слова В.Кюхельбекера, написанные в 1845 г., оказались наиболее применимы к временам грядущим. Мартиролог русских поэтов, понемногу пополнявшийся весь XIX век, в XX стал расти все более стремительно. Уже десятки и сотни имен вписывались в него невидимой рукой (реальные списки погибших и по сей день не завершены)…
Судьба Максимилиана Волошина (1877 — 1932) была на этом фоне на редкость удачливой. Поэт уцелел в гражданскую (находясь в самой гуще событий); не был репрессирован в
Портреты современников. Максимилиан Волошин (С. К. Маковский)
В Волошине была особая ласковость, какое-то очень вкрадчивое благожелательство, он всегда готов был придти другому на выручку, и это подкупало. Щедр был духовно и восторженно впечатлителен, иногда и трогательно заботлив. А физически — совсем лесовик из гриммовской сказки. Сильный, массивный (весил семь пудов), хоть невысок ростом, — он отличался на вид цветущим, пышущим здоровьем, и не жирен, а необыкновенно плотен и, вместе, легок на ходу: упругий мяч. Это делало его, пожалуй, несколько «неуместным» рядом с другими жрецами муз в редакции «Аполлона», большею частью — худыми, телесно недоразвитыми. Стесняла его немного эта массивность и пользовался он всяким случаем, как бы помочь слабейшему. Любил, между прочим, лечить наложением рук; уверял, что из него исходят флюиды. От его мощного, полнокровного тела и впрямь веяло каким-то приятным жаром.
Портреты современников. Иннокентий Анненский (С. К. Маковский)
Известно, что мы плохо ценим и бережем наших «больших людей», — как часто уходят они почти незаметно и только позже, когда их нет уже, спохватившись, мы сплетаем венки на траурных годовщинах...
Одним из таких неузнанных при жизни был Иннокентий Федорович Анненский. В области литературной он работал, можно сказать, в безвестности и лишь перед самой смертью обратил на себя внимание, примкнув к кружку молодых поэтов, зачинателей журнала, обязанного главным образом ему, Анненскому, первыми своими удачами...
Зато и не пощадила его литературная чернь... Не одна чернь! Перед кем-кем, а перед Анненским повинно всё русское общество, — ведь современники, за исключением немногих друзей, мало что не оценили его, не увлеклись им в эти дни его позднего, так много сулившего творческого подъема, но, обидев грубым непониманием, подтолкнули в могилу.
«Ни с теми, ни с этими» — тернистый путь Марины Цветаевой (Р. Кембалл)
В своей подробной статье «О Марине Цветаевой» в «Новом журнале»1 Марк Слоним рисует трогательную и вместе с тем забавную картину первой встречи с нею. Это было в одном берлинском кафе, летом 1922 г. Слоним был в то время литературным редактором пражской «Воли России».
Он уже знал и любил цветаевские стихи, и ему особенно понравился ее только что вышедший сборник «Разлука»2. Он предлагает ей дать ему стихи для своего журнала и, по приезде в Прагу, зайти в редакцию в центре города, на Угольном рынке.
Слоним рассказывает: «Услыхав, что редакция находится в пассаже XVIII века… и занимает помещение, где в 1787 г. Моцарт, по преданию, писал своего «Дон Жуана» … , М[арина] И[вановна] совершенно серьезно сказала: «Тогда я обещаю у вас сотрудничать».
Требования к материалам, представляемым на рецензирование в Издательский Совет РПЦ
При представлении материалов на рецензирование в Издательский Совет необходимо подать прошение установленного образца в 3-х экземплярах.
Прошения издательских отделов синодальных учреждений подаются за подписью председателя, издательств ставропигиальных монастырей — за подписью наместников или настоятельниц, издательских структур епархий, приходов и епархиальных монастырей — за подписью епархиального архиерея.
Прошение на рецензирование от светских организаций подаются за подписью руководителя с обязательным наличием печати организации.
Быт и бытие Виктории Швейцер
Литературовед Виктория Швейцер уже больше 30 лет живет в США в городе Амхерст (штат Массачусетс), ведет семинары по русской литературе в одном из частных колледжей. Книга Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой», увидевшая свет в 1988 году в парижском издательстве «Синтаксис», была переведена на четыре иностранных языка и почти сразу попала в пятерку бестселлеров в жанре
— Расскажите, с чего началось ваше увлечение Цветаевой в годы, когда ее имя практически не упоминалось?
— Да, в школе тогда ее не упоминали, в университете тоже. Но однажды, кажется в 1955 году, поэтесса Зинаида Константиновна Шишова, из группы
Христианское мировоззрение Мандельштама (Никита Струве)
Выковать Божью волю не за страх,
а за совесть.
После всего, что было сказано о мировоззрении Мандельштама в воспоминаниях и письмах Надежды Яковлевны, в статьях Н. Кишилова, Ю. Иваска, С. Аверинцева и в моих собственных статьях и книге, казалось бы, христианское ядро, христианская первооснова его жизнетворчества уже не требует доказательств. А вместе с тем, анкета, проведенная в связи с юбилеем в Вестнике РХД, обнаружила именно в этом вопросе неожиданное разногласие. Агностик Борис Гаспаров не воспринимает Мандельштама «как христианского поэта, т.е. такого, у которого самые основания его творчества были бы проникнуты христианским мироощущением», и даже считает Мандельштама (horribile dictu!) «не метафизичным». Исходя из прямо противоположных предпосылок, начисто отказывает Мандельштаму в христианстве православная поэтесса Олеся Николаева. «Как человек внерелигиозный» высказать свое мнение отказался Г. Фрейдин (разумеется, были ответы, утверждавшие христианство Мандельштама — С. Аверинцева, Ю. Кублановского и ныне покойного Б. Филиппова).
Старые друзья (Надежда Мандельштам)
Очень давно, еще в Киеве, мы с Мандельштамом зашли в книжный магазин Оглоблина, и я спросила: «Что это еще за Радлова?» Мандельштам сказал, что Радлова — ученица Зелинского, поэтесса, пытается конкурировать с Ахматовой и плохо о ней говорит. Из-за этого друзья Ахматовой перестали у нее бывать. Он прочел смешной стишок-пародию про архистратига, который входит в иконостас. Стишок кончался многозначительным: «И пахнет Валерьяном» — намек на роман Радловой с Валерьяном Чудовским. Он был из тех, кто, здороваясь, не снимает перчатку. Году в тридцатом я видела его с женой в санатории Цекубу. К ним привозили чудного крошечного мальчика, и мне стало страшно, что в такие годы появляются дети — что с ними будет? Жена Чудовского сказала, что надо интеллигентам иметь детей в противовес всем пролетарским младенцам. Я не уверена, что у интеллигентов обязательно рождаются интеллигенты. Качества эти по наследству не передаются. Где они все? Вид у них был гибельный, особенно у брата жены, ходившего на лыжах, как архистратиг...
«Поэма горы» и «Поэма конца» (Томас Венцлова)
Две пражские поэмы Цветаевой — едва ли не кульминационная точка ее творчества. Они принадлежат к числу высших достижений русской поэмы XX столетия — жанра, отмеченного такими вехами, как Возмездие и Двенадцать Блока, Первое свидание Андрея Белого, Форель разбивает лед Кузмина, Спекторский Пастернака, Поэма без героя Ахматовой. Как известно, этот жанр существенно отличается от канонического жанра, созданного Пушкиным и Лермонтовым. Типическая поэма XX века не имеет развернутого сюжета, состоит из ряда эпизодов (часто автобиографических), нередко полиметрична и в пределе сводится к циклу стихотворений, как у Кузмина. Семантическое единство ей придается разнообразными и многосложными приемами, в частности единым, хотя порою глубоко завуалированным подтекстом.
Поэма Горы и Поэма Конца представляют собою как бы диптих; наиболее разумно рассматривать их вместе. Так их рассматривала и сама Цветаева (ср. известное ее письмо к Пастернаку от 26 мая 1926 года: «...Гора раньше и — мужской лик, с первого горяча, сразу высшую ноту, а Поэма Конца уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы ... Поэма Горы — гора с другой горы увиденная. Поэма Конца — гора на мне, я под ней»).
Возвращение Ариадны (Константин Азадовский)
Имя Ариадны Эфрон (1912 — 1975) оказалось причастным к русской поэзии еще в ту пору, когда она была ребенком. В сознании нескольких читательских поколений оно неразрывно соединилось с именем ее матери, желавшей видеть в малолетней Але свое подобие, alter ego. В стихотворном сборнике «Психея. Романтика» (Берлин, 1923) Марина Цветаева предприняла удивительную, едва ли не единственную в истории литературы, попытку: слить собственный голос с голосом своей дочери. Сборник открывается циклом «Стихи к дочери», а завершается разделом «Психея. Стихи моей дочери». Слово «Психея» поставлено неслучайно: душа, по Цветаевой, не имеет возраста.
Сказалась ли в этих безыскусных, но в то же время своеобразно поэтических строках семилетней Али «рука Марины» — судить трудно. Однако сохранившиеся письма Ариадны тех лет, а также свидетельства современников позволяют говорить о ее невероятно ранней духовной зрелости: «...видит ангелов, пишет мне письма, самые красивые из девических писем, какие я только получал когда-либо в жизни, и пишет стихи, совершенно изумительные», — вспоминал Бальмонт (речь идет о Москве 1920 года)1. Некоторые из этих писем сохранились. «Марина живет как птица: мало времени петь и много поет», — сообщает, например, Ариадна о своей матери 30 августа 1921 года в письме к Е. О. Волошиной2.
О графоманах — православных и не только (Виталий Каплан)
или Страдания редактора
Снова у меня на столе пухлый конверт. Я привычно догадываюсь: стихи. Стихи, которые любят слать в «Фому». Стихи, которых много. Стихи, которые — не стихи.
И снова мне придется убеждать адресата, что мы самотек не печатаем, что рубрику «Строфы» у нас ведет отдел поэзии журнала «Новый мир», что в этой рубрике у нас публикуются ведущие, признанные российские поэты. А внутри будет грызть червячок. Потому что хоть это и правда, но не вся правда. Но ведь не обижать же человека, не говорить ему прямо: извините, но ваши стихи — графомания.
А почему, собственно, графомания, может спросить он в ответ. И почему я вправе решать, какие стихи графоманские, а какие нет? У меня что, на столе стоит портативный «графоманиметр»? Неужели есть четкий, понятный и всеми признанный способ отделить графоманские стихи от неграфоманских?
Culture on demand (Сергей Москалев)
Пять источников пиратства
Если уж говорить о цифровом, социальном и экономическом неравенстве — вот вам Англия, где человек любого социального положения и достатка может прикоснуться к культуре и общественному достоянию.
Недавно, будучи в Англии, я был потрясён тем, что английское правительство все государственные музеи сделало public domain, то есть общественным достоянием. Причём в прямом смысле слова: чтобы попасть в Британский музей, не нужно платить 20 фунтов за вход — вход свободный. Ещё удивительнее, что в музеях можно фотографировать любые объекты и картины. Причём нет унизительного «с иностранцев взять побольше». Оpen source теперь существует не только в производстве софта, но и в политике, культуре, в науке, где пионер и евангелист этого направления — выдающийся математик Григорий Перельман, выложивший доказательство теоремы Пуанкаре в интернет.
Почему люди пользуются торрентами, скачивают фильмы, книги, музыку?
На очной ставке с собой и миром (Ольга Седакова)
«Нигде как в целом мире не может иметь место существо человека,
чистое присутствие с его основной мелодией, молчаливым согласием»
(
Оборванное еще так близко, еще совсем здесь, так что множество картин, жестов, интонаций, сцен появляются рядом: одно, другое, третье. ВВ на крыльце дома, который он сам в одиночку построил, в летней темноте, со скрипкой. ВВ за рулем в своей уже почти самодельной машине. Среди мальчиков: «Господа! кто идет за водой?» ВВ в больничной постели после операции с «Илиадой»
Эпизоды «из жизни» вспоминаются первыми — раньше, чем сочинения и мысли. Это неслучайно. Владимир Вениаминович был предан философии, которую многие профессиональные философы (собственно говоря, историки философии, критики и аналитики разнообразных готовых философских систем) сочтут «уже невозможной» — философии, которая есть образ жизни, место жизни, есть наше присутствие в мире, так, как это было для Сократа или Кьеркегора.
Мир — быть может, главное слово мысли Бибихина.
«Мы слышим слово насколько способны отвечать ему...» (Дарья Лунгина)
Нарастающую глухоту последних лет, в которой тонули голоса даже более знаменитых современников, Владимир Вениаминович Бибихин (19 августа 1938 — 12 декабря 2004) прорежал тем, что умел принадлежать к вещам безусловно другого порядка.
Представляемый широкой публике как переводчик и лишь во вторую очередь как «публицист и философ», Бибихин был прежде всего философом в европейском смысле этого слова, не имеющим ничего общего с публицистикой. Древние и новые языки были тем, что делало его своим на Западе. Живший трудно, как это умеют делать только у нас, и имевший облик подвижника, Бибихин выступая выглядел так, как будто знал секрет западного благополучия, умного устройства жизни. В наших просторах он демонстрировал то, что там составляет не предмет специальных усилий политтехнологов, а такой же факт, каким является факт существования государства — способность свободной мысли самой по себе образовывать социальную действительность. Он познакомил нас, с одной стороны, с продолжателями мысли Хайдеггера и его учениками Франсуа Федье, Франсуа Везеном и Жаном Бофре1, а с другой, заново открыл нам неожиданного в этом ряду Огюста Конта2 — французов, чья культура через римлян сохранила греческий навык общего дела, философии, связанной с политикой и оттого дельной и практичной ровно настолько, насколько делом человека становятся лишь те вещи, в которых он участвует мыслью и словом.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- …
- следующая ›
- последняя »