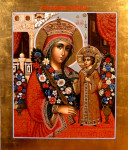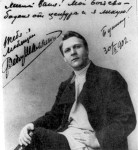Я увидел его впервые зимой, накануне Нового года. Мы тогда только дружили с моей настоящей женой и впервые подошли к её дому. Расставаться не хотелось, проявлять друг другу знаки любви мы тоже стеснялись. Просто стояли и держали друг друга за руки, ну, а Света, обоняла только, что подаренные мной духи, которые и станут самыми любимыми её духами вот уже на протяжении семи лет супружеской жизни.
Он вышел от «карасей»… «Караси» — это местное уличное наименование соседей родителей моей жены, видимо родившееся от их фамилии Красиковы. К сожалению, их судьба была сходной со многими тысячами таких же бедолаг по всей необъятной территории нашей Родины, катастрофично быстро спившихся после развала Советского Союза. Их было двое. Два брата, ещё кое-как державшихся на плаву, пока была жива их мать, ну, а потом, пропивших из дома, что только возможно, даже последние часы. Кстати, они часто заходили поначалу к родителям жены, чтобы узнать у них который час, потому, что им нужно было идти на работу. Но, с работы они скоро вылетели, и необходимость в этом пропала.