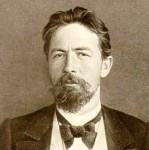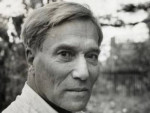По случаю 155-й годовщины со дня рождения известного русского писателя А. П. Чехова китайское издательство «Шанъу инъшугуань» выпустило в свет переведенные на китайский язык «Избранные письма Чехова», сообщает агентство «Синьхуа».
Как сообщили в издательстве, в сборник включены более 200 самых интересных и представляющих наибольшую ценность писем русского писателя, а также его фотографии.
«Узнать Чехова, естественно, можно через чтение его литературных сочинений. Но по своему опыту могу сказать, что в какой-то степени я поистине узнал его лишь после того, как прочитал все написанные им свыше 4000 писем», — отметил работавший над сборником переводчик, известный театральный критик Тун Даомин.