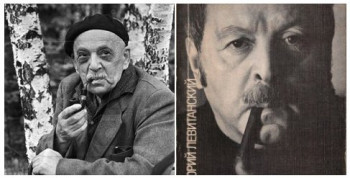Из воспоминаний о Семене Кирсанове
У больного раком Кирсанова все последние стихи об одном — о смерти.
«Никто не услышал.
Никто не пришел.
И я умер». «Оттого что я
пять минут, как умер,
смерти больше нет,
больше нет,
нет, нет, нет!».
Я помню, как эти стихи читал над гробом Кирсанова в Дубовом зале ЦДЛ Павел Антокольский. Сам уже на пороге небытия, маленький, лысый, с большой головой, он повторял с перехваченным горлом, повторял, как заклинание:
— Смерти больше нет!
Нет! Нет! Нет!
А потом он сказал:
— Но смерть пришла и сказала: «Я — есть!».
И он, как посохом, стукнул палкой в пол.
И все заплакали.
Вскоре мы так же стояли над гробом самого Антокольского, а потом и Давида Самойлова, и еще многих, многих…
Семена Исааковича и Люсю (о Боже, я ее до своих двадцати лет, пока не вышла замуж, называла «тетей Люсей», а потом она мне намекнула на некоторую неуместность такого публичного обращения к ней) по вечерам часто можно было встретить в Дубовом зале, в ресторане ЦДЛ. Незадолго до смерти Кирсанов, встретив там старика Антокольского, ужинавшего с юной светловолосой поэтессой, игриво ему сказал: «Павлик, не порти себе репутацию!».
А однажды он оказался там один, без Люси, и сидел, мрачный, за столиком, ковыряя вилкой в салате и попивая коньяк. К нему подошел Юрий Давыдович Левитанский:
— Семен Исаакович, что случилось, почему вы такой печальный?
Кирсанов поднял на него глаза:
— Какать — а как? — ответил он на вопрос палиндромом.
Левитанский задумался на секунду и выпалил симметрично — палиндромом же:
— Мастер срёт сам!