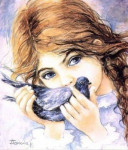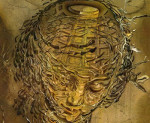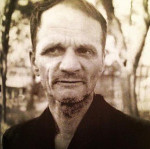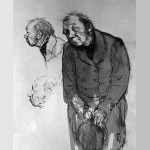Поэта далеко заводит мысль1
Важнее КТО сказал или ЧТО сказал? Для большинства, конечно, важнее КТО, ибо ЧТО сказано часто не совсем понятно и может быть недостоверным (непонятное нельзя проверить на смысловом уровне). Контекст сказанного задаётся тем, КТО говорит. Однако привычное полагание на авторитет в наше время становится слишком ненадёжным. Мы выходим на такой уровень существования, когда правду от лжи вряд ли будет возможно отличить, опираясь на авторитеты. И не потому, что авторитеты тоже ошибаются или, что тоже не редкость, заинтересованы в той или иной правде (врут в свою пользу, пусть даже не всегда осознанно), а ещё и потому, что создаются ложные авторитеты, подрывается вера в привычные авторитеты, выливаются ушаты грязи на прежде надёжные авторитеты, создаётся попросту другая, подменённая реальность из ложных или полуправдивых фактов и т.д. Авторитеты практически исчерпали своё время, пора начинать мыслить самостоятельно, осуществлять выбор и расплачиваться за него — а мыслим мы совестью.