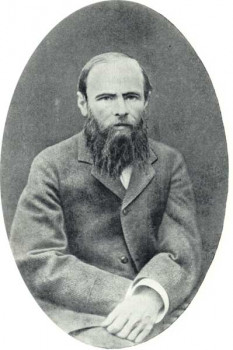I
Достоевский, бесспорно, один из самых замечательных, но вместе с тем один из самых трудных представителей не только русской, но и всемирной литературы. И не только трудный, но ещё и мучительный. Михайловский назвал посвящённую им Достоевскому — сейчас после смерти последнего, — т. е. в 1881 году, статью: «Жестокий талант». И в определении Михайловского скрыта большая, хотя и чисто внешняя, так сказать, правда о Достоевском: ему, точнее писаниям его, свойственна крайняя, безудержная «жестокость», которая и при его жизни и после его смерти отталкивала от него и продолжает отталкивать многих читателей. В этом отношении Достоевский, однако, не является исключением. В девятнадцатом столетии было ещё два писателя, которым суждено было сыграть огромную роль в истории развития европейской мысли — Кирхегард и Ницше и об этом можно сказать «жестокие таланты». И Ницше и Кирхегард ещё более страстно, чем Достоевский, прославляли в восторженных гимнах жестокость. Причём, как видно из первых уже произведений Достоевского, он не был по природе своей жестоким, но, наоборот, очень добрым и любящим человеком. Жестокость пришла к нему после? Откуда, почему? Ответить на этот вопрос, значит подобрать ключ к загадке творчества Достоевского — самого странного и парадоксального, какое только могло бы представить себе человеческое воображение. Достоевский и сам не только сознавал, но и говорил о том, какой резкий перелом произошёл в его миропонимании. В 1873 году, когда ему уже перевалило за пятьдесят лет, оглядываясь на свою почти тридцатилетнюю писательскую деятельность, он заявляет: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений». Конечно, трудно — но фактически он во всём, что писал, только и делал, что рассказывал о перерождении своих убеждений. И именно в этом и заключается весь интерес его писаний — и для него и для нас. «История перерождения убеждений», разве может быть во всей области литературы какая-нибудь история, более полная захватывающего и всепоглощающего интереса? История перерождения убеждений, ведь это прежде всего история их рождений. Убеждения вторично рождаются в человеке, на его глазах, в том возрасте, когда у него достаточно опыта и проницательности, чтоб сознательно следить за этим глубоким таинством своей души. В «Записках из подполья» мы читаем у Достоевского такие слова: «о чём может говорить порядочный человек,с наибольшим удовольствием... Ответ: о себе. Ну, так , я буду говорить о себе». Сочинения Достоевского в значительной степени осуществляют эту программу. С годами, по мере того как зреет и развивается его дарование, он всё смелее и правдивее говорит о себе.
Литературная деятельность Достоевского может быть разделена на два периода. Первый начинается «Бедными людьми» и кончается «Записками из Мёртвого дома». Второй начинается «Записками из подполья» и заканчивается речью о Пушкине. Из «Записок из подполья» читатель внезапно узнаёт, что, пока писались другие романы и статьи, в Достоевском происходил «один из страннейших кризисов, которые только способна уготовить себе и вынести человеческая душа». То, что Достоевский назвал «перерождением убеждений» — было не естественным, спокойным, безболезненным процессом, как это может показаться стоящему извне наблюдателю. Достоевскому пришлось вырывать из своей души то, что с ней срослось органически и как бы навеки. Об этом достаточно свидетельствует тон, в котором написаны «Записки из подполья». Уже первая глава «Записок» написана с таким огромным напряжением, что её пришлось закончить словами: «постойте, дайте дух перевести» («Зап. из подполья», гл. 1-я). Достоевский не говорит, он словно кричит и кричит не своим голосом, как может кричать человек, которого подвергают неслыханной пытке. Оно иначе и быть не могло: Достоевскому вдруг открылось, что идеалы, которым он отдал всю свою молодость, которым он служил с такой искренностью и беззаветностью — обманули его, что всё написанное им до сорока лет («Записки из подполья» были написаны, когда Достоевскому уже исполнилось сорок лет), было сплошной ложью, и притом ложью, ничем не могущей быть оправданной. Приведу здесь для начала лишь небольшой отрывок из записок подпольного человека, который сразу откроет нам, какой страшный переворот произошёл в душе Достоевского в эту пору. Вот что он говорит пришедшей к нему за нравственной поддержкой женщине из публичного дома: «На деле мне надо знаешь чего? Чтоб вы провалились, вот чего. Мне надо спокойствия. Да, я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет за копейку продам. Свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда был». Кто говорит так, кому пришло в голову вложить в уста своего героя слова такого чудовищного цинизма? Тому самому Достоевскому, который рассказывал нам так трогательно в своей первой повести «Бедные люди» о горестной судьбе Макара Девушкина и который ещё недавно с таким горячим и неподдельным чувством писал в «Униженных и оскорблённых»: «Сердце захватывает, познаётся, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой».
«Бедные люди», последние, забитые, «униженные и оскорблённые» — это постоянная тема всех ранних произведений Достоевского. Как же случилось и точно ли случилось, что Достоевский раз навсегда отвернулся от «бедных» людей, от «униженных и оскорблённых» — и поставил себе единственной жизненной задачей удовлетворение элементарных потребностей своего жалкого я? В самом деле так ожесточилось сердце Достоевского? Такие предположения не раз высказывались ещё при жизни Достоевского недоброжелательной и нетерпеливой критикой. Отчасти они лежали в основании того, что дало повод Михайловскому назвать Достоевского «жестоким талантом». Но это — самое ошибочное представление, которое можно только придумать. Правда, оно нас освобождает от неслыханно трудной проблематики Достоевского — и многих это очень соблазняет но оно же отнимает у нас окончательно и навсегда Достоевского. На самом деле произошло прямо противоположное: чем дольше жил и чем больше задумывался Достоевский над великими и последними тайнами человеческого существования, тем страстнее и беззаветнее отдавал он себя и все свои огромные силы «бедным людям», «униженным и оскорблённым», «последнему, забитому человеку». Когда в «Записках из Мёртвого дома» ему пришлось столкнуться с каторжанами, с миром всеми отвергнутых и всеми забытых людей, с тем действительно страшным и им самим во всём ужасе описанным слоем общества, в котором мы все видели и видим лишь подонки, отребье человеческого рода, он реагировал на это не так, как другие его товарищи по заключению, тоже политические осуждённые, он не говорил: je hais ces brigands*. Наоборот, он и в них, этих действительно последних, ненужных, забитых и забытых людях увидал себе подобных, близких, братьев своих. Каторжники не оттолкнули его от себя, а поставили перед ним тоже огромный и в своей огромности для большинства людей неприемлемый и потому как бы совсем и несуществующий вопрос, который великий французский поэт Charles Beaudelaire** выразил в бессмертных словах: aimestu les damnes, connaistu 1'irremissible***? Можно ли, можем ли мы любить осуждённых, навеки осуждённых, знаем ли мы тот роковой ужас, который скрыт в словах «невозвратное»? И, главное, хотим ли мы, располагаем ли мы душевными силами, которые нужны, чтобы глядеть прямо в лицо тем жизненным ужасам, на которые обречены навеки осуждённые люди? Я сейчас привёл вам слова Достоевского: «познаётся, что самый последний забитый человек есть брат твой». За то, что он осмелился возгласить эту истину и за робкую попытку до некоторой хотя степени начать осуществлять её в жизни он, как известно, был приговорён судом императора Николая I к смертной казни, которая была заменена каторгой. И вот в 1873 году, уже после того, как убеждения его «переродились», в Дневнике писателя мы читаем следующие слова: «приговор смертной казни расстрелянием, прочтённый нам предварительно, был прочтён вовсе не в шутку; все приговорённые были уверены, что он будет исполнен, и вынесли по крайней мере десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю это положительно) инстинктивно углублялись в себя и, проверяя мгновенно всю свою, ещё столь юную жизнь — может быть, и раскаивались в иных тяжёлых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат втайне на его совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое много нам простится! И так продолжалось долго. Ни годы ссылки, ни страдания нас не сломили. Наоборот, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга». Через всю свою долгую жизнь Достоевский пронёс те идеи, которые одушевляли его первые произведения. Напомню небольшой рассказ Достоевского — «Мужик Марей», написанный в 1876 году— за пять лет до смерти, он кончается так: «И вот, когда я сошёл с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла Совсем всякая ненависть и всякая злоба в моём сердце... Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей». Ясно, что перерождение убеждений нужно искать не в ожесточении его сердца, а где-то совсем в ином месте.
* Я ненавижу этих разбойников (франц.)
** Шарль Бодлер
*** Любишь ли ты проклятых, признаёшь ли ты непрощёного (франц.)
II
Говоря о перерождении убеждений у Достоевского, я привёл вам достаточно его собственных заявлений, свидетельствующих о том, что он пронёс неизменными до конца своей жизни идеи, с которыми он в ранней юности своей выступил на литературное поприще. Можно даже сказать больше: всё то новое, что открылось Достоевскому в зрелом возрасте и в старости, было бы ответом на те вопросы, которые—для него самого ещё незримые — таились в идеях его юности. Чтобы понять это, нам нужно хоть на краткое время остановиться и всмотреться и вчувствоваться в духовную атмосферу, в которой жило русское образованное общество конца сороковых годов прошлого столетия, когда Достоевский начал писать. Властителем дум и вождём всех русских культурных людей этой эпохи был Белинский. Белинский впервые оценил и понял и в своих статьях показал всем, что дал России Пушкин. Белинский любил в Пушкине не только великого поэта, который, выражаясь его собственными словами о Моцарте, как некий херувим занёс к нам несколько райских песен, но и человека редкой души. И в своих статьях о Пушкине он с безграничной страстью и восторгом говорил о человечности Пушкина и всегда противопоставлял её грубости нравов, жестокости и ничем не сдержанному произволу, царившему в эпоху Николая Первого,— эпоху крепостного права. Белинский, вдохновляемый Пушкиным и традициями декабристов, ненавидел крепостное право, равно как и державшееся им и поддерживавшее его самовластие царя и царского продажного чиновничества. И все лучшие люди России были вместе с Белинским и заодно с Белинским врагами крепостного строя. То дело — оно по имени главного обвиняемого Петрашевского и называлось делом петрашевцев, за которое Достоевский был осуждён на смерть — было слабой попыткой борьбы с крепостным правом небольшой группы людей. Огромное влияние на развитие русского общества имели наши западные соседи — и, главным образом, Франция. Французская революция, её декларация прав человека и гражданина чаровали умы всех тех, кто считался и сам считал себя передовым человеком. Не меньшее влияние на развитие пробуждающегося сознания русского общества имела и французская литература тридцатых и сороковых годов прошлого века. Достоевский уже под старость вспоминает об этом и говорит, что, несмотря на строгую цензуру того времени, «ещё с прошлого столетия у нас всегда тотчас же становилось известным о всяком интеллектуальном движении в Европе и тотчас же из высших слоев нашей интеллигенции передавалось и массе хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящих людей». Во французской революции русские видели зарю занимавшейся во всём мире свободы, во французской литературе— прославление всего лучшего, всего, высокого, о чём когда-либо мечтали люди. Особенно чаровала всех Жорж Занд. Вот как о ней вспоминает Достоевский: «Появилась она на русском языке примерно в половине тридцатых годов... Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочёл в первый раз её повесть «Ускок» — одно из прелестнейших первых её произведений. Я помню, был потом в лихорадке всю ночь. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд, по крайней мере по моим воспоминаниям, заняла у нас сразу чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе. Даже Диккенс, явившийся у нас почти одновременно с ней, должен был уступить ей... Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь и именно потому, что сама в душе своей способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев». Так принимали русские люди сороковых годов прошлого столетия Жорж Занд, так понимали они Бальзака, Виктора Гюго, Диккенса, так преломлялось в их понимании всё, что делали передовые люди Европы: во всём видели они провозглашение великой хартии новых вольностей, грандиозную и великолепную декларацию прав человека; Достоевский был целиком во власти этих идей. Первый рассказ его был уже попыткой воплотить в слова все эти идеи. Он и называется «Бедные люди». Достоевский начал писать его ещё почти совсем юношей, по-видимому, когда ещё был в Инженерном училище, и отдавал ему все свободные часы, работая над ним по ночам. Когда он его закончил, он передал его на рассмотрение в редакцию тогда наиболее распространённого журнала, главным сотрудником которого был Белинский. И вот разыгралась такая единственная в своём роде сцена. В четыре часа утра вбегают к нему два ответственных редактора журнала — тогда уже имевший всероссийскую известность поэт Некрасов и Григорович и возвещают ему со слезами на глазах, что он написал необыкновенную вещь. Через несколько дней он встречается с самим Белинским, от которого слышит: «Да вы, понимаете ли сами, что вы написали! Вы только непосредственным чутьём, как художник, могли написать это». Нечего и говорить, каким огромным событием это было в жизни Достоевского: лучшие представители русской литературы пришли поклониться ему, безвестному молодому человеку. «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни»,— говорил сам Достоевский впоследствии.
За что поклонились ему Белинский и Некрасов? Поклонились за «бедных людей» — за бедных людей, которым они сами отдали всю свою жизнь. Приведу вам небольшой отрывок из частного письма Белинского, в котором с необычайной яркостью сказалось его profession de foi* и которое почти все его друзья разделяли с ним, и в котором in nuce** заключалось всё, что впоследствии пришлось orbi et urbi*** провозгласить Достоевскому, и которое несколько поколений русских людей затверживали наизусть. «Если бы мне и удалось,— пишет Белинский,— взлезть на верхнюю ступень лестницы развития — я и там бы попросил вас отдать мне отчёт во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени брошусь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчёт каждого из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии». Так думал и так говорил Белинский, так думал и так говорил до самой своей смерти Достоевский. И в этих словах мы уже можем усмотреть сразу и «убеждения» молодости Достоевского и тот фермент, благодаря которому произошло то, что он назвал перерождением своих убеждений. С одной стороны — Белинский, как и Достоевский, говорит о последних, забитых, отверженных людях и называет их своими братьями по крови. Но, с другой стороны, он уже не довольствуется, как в своих статьях, прославлением «гуманизма», провозглашением «декларации прав человека и гражданина» — теми идеями, которые он с такой радостью принял от своих западных учителей. Он требует отчёта о всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции и т. д. И когда ему отвечают,— правда, не из Франции, а из Германии — устами наиболее прославленного тогда философа Гегеля, что «дисгармония есть условие гармонии» и что этой ценой, ценой жертвы братьев по крови, покупается человечеством «развитие» — он с гневом и отвращением отвечает: не приму я вашего развития, не приму я такой гармонии — если я даже и доберусь до верхней, высшей ступени, сам брошусь вниз головой. Гегель учил, что всё действительное разумно, и весь западный мир повторял за Гегелем, что всё действительное разумно, и в этом видел последнее слово мудрости, человеческой и Божеской. Но там, где западная учёность видела последнее слово, конец разрешающий, успокаивающий ответ, там для Белинского, а за ним и для Достоевского было начало — и не ответов, не успокоения, а вечной, страшной, неизбывной тревоги. Нельзя жить, нельзя принять мира, пока мы не добьёмся отчёта о всех жертвах наших братьев по крови. Но где искать, от кого требовать такого отчёта? И что может дать Гегель или какой хотите другой великий философ, как бы настойчиво ни приставали вы к нему со своими требованиями? «Если Филипп II сжёг на костре тысячи еретиков, если голод, землетрясения, чума или иные естественные бедствия загубили миллионы людей — то требовать за них отчёта бессмысленно. Все они погибли, и их дело безвозвратно, непоправимо, навсегда окончено. Тут уже никакой Гегель не поможет, и заявлять протесты, негодовать, требовать отчёта от всей вселенной по поводу замученных и безвременно погибших людей, очевидно, уже поздно. Нужно либо отвернуться от всех этих печальных историй, либо, если хочешь, чтобы в твоё миропонимание необходимо вошли все существенные элементы, из которых складывается реальная жизнь, придумать что-либо вроде общей гармонии, т. е. круговой поруки человечества, и зачитывать в пассив Ивана актив Петра, либо совсем бросить всякие подсчитывания и, переименовав раз навсегда человека в индивидуум, признать, что высшая цель в каком-либо общем принципе и что этому принципу отдельные живые люди должны быть приносимы в жертву».
Ни Белинский, ни вслед за ним Достоевский никогда не соглашались принять этого ответа западной философии. Чтоб убедиться в этом, достаточно вспомнить размышления Ивана Карамазова о замученных детях. Три четверти того, что писал Достоевский, посвящено той же теме, ужасам человеческого существования. И сколько он ни говорит об ужасах человеческого существования, всё ему кажется мало. Но теперь он описывает эти ужасы иначе, чем делал в молодости, точнее говоря, прежде ему казалось, что в этих описаниях есть уже что-то разрешающее, положительное, успокаивающее. Он это формулировал в словах, которые я уже приводил: «сердце захватывает, познаётся, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой». Теперь такое разрешение Достоевского уже не удовлетворяет, наоборот, оно раздражает, возмущает и бесконечно тревожит его. Как Белинский, он начинает требовать отчёта о каждой жертве случайности, суеверия и т. д., отчёта о замученной истязаниями девочке, о затравленном собаками на глазах матери мальчике. Высокие моральные рассуждения, которые в молодости казались ему разрешающими все мучительные вопросы, возбуждают в нём лишь чувство крайнего негодования. «Для чего познавать это чёртово добро и зло, когда это столько стоит?» — в этом гневном вопросе Ивана Карамазова мы вправе видеть разъяснение того, откуда пришло перерождение убеждений к Достоевскому. Другими словами, Достоевский то же выразил в Дневнике писателя за 76-й год: «Я утверждаю, что сознание совершенного своего бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при нашем полном убеждении в этом страдании, может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему». Бессильная любовь к людям должна неизбежно превратиться в ненависть. Эта страшная истина, открывшаяся Достоевскому, и была началом перерождения его убеждений. Он уже не довольствуется тем, что «обливается слезами» над «униженными и оскорблёнными». Пред ним возникает грозный в своей очевидной'неразрешимости вопрос: можно ли помочь этим «забитым» людям, о которых он столько говорил в своих юношеских произведениях, снискавших ему восторженные похвалы лучших представителей современной русской литературы. Где искать на него ответа?
* Кредо (франц.)
** В сердцевине (лат.)
*** городу и миру (лат.)
III
Смертная казнь была заменена Достоевскому четырьмя годами каторжных работ. За все эти четыре года он был как бы совсем отрезан от остальной жизни. Ему не разрешалось получать не только газеты и журналы, но даже книги. Единственное исключение, которое было допущено, и вместе с тем единственная книга, которая была у него в течение этих четырёх лет пребывания в каторжной тюрьме,— была Библия, Св. Писание. И нужно сказать: если, с одной стороны, источником рождавшихся в Достоевском убеждений был новый, такой чуждый для большинства людей опыт — опыт совместной жизни с отрезанными от всего мира, навсегда осуждёнными людьми, то, с другой стороны, несомненно, что он черпал силу и бодрость, а вместе с тем и готовность на борьбу с открывшимися ему в бытии трудностями, в той загадочной книге, вышедшей из среды невежественных пастухов, плотников и рыбаков, которой судьбой суждено было сделаться книгою книг для европейских народов. И это как раз в те годы, когда просвещённый Запад самым решительным образом от Библии отвернулся, усмотрев в ней пережиток идей, не оправдываемых ни нашими знаниями, ни нашим разумом. Библейская критика, начавшаяся со знаменитого «Теолого-политического трактата» Спинозы, принесла свои плоды. Философская мысль признавала в лице её величайших представителей, в особенности в Германии, только «религию в пределах разума» (так названо было одно из замечательнейших произведений знаменитого основателя немецкого философского идеализма Канта). Но что могла «религия в пределах разума» дать страждущему человечеству? Чем она могла помочь людям? Размышлениями о том, что дисгармония является условием гармонии? Мы помним, что уже Белинский с ужасом и отвращением отверг эту основную идею гегелевской философии. Достоевский ещё решительнее и смелее вступает в последнюю и отчаянную борьбу с широковещательными и якобы всеразрешающими идеями немецкой философии. Задолго до «Братьев Карамазовых» — ещё в «Преступлении и наказании» — он делает первую, дерзновенную попытку противопоставить Библию и библейское учение тому, что принесла Западу совокупность добытых новым временем знаний во всех областях жизни. Несмотря на фабулу, задача Достоевского в «Преступлении и наказании» вовсе не в том, чтоб установить и выявить связь между нарушением законов и неизбежно следующей за ними ответственностью, карой. Задача его совсем иная, в известной степени даже противоположная. Правда, Достоевский как будто «обвиняет» Раскольникова,— на самом деле, он спрашивает за него «отчёта», как спрашивал его учитель, Белинский, отчёта за все жертвы суеверия. «Раскольников,— рассказывает Достоевский,— точно ножницами отрезал себя от всех и всего в эту минуту». Вспомните, что сделалось с Разумихиным, когда он, войдя, вслед за Раскольниковым, после неслыханной, безумно мучительной сцены его прощания с матерью и сестрой, вдруг догадался, какой ад происходит в душе его несчастного друга. «Понимаешь? — спросил его Раскольников с болезненно искривившимся лицом», — и от этого вопроса у нас волосы подымаются на голове дыбом. Или вот размышления Раскольникова после убийства: «Потому я окончательно вошь, — прибавил он, скрежеща зубами,— потому что сам-то я, может быть, ещё сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью. Да разве с этим ужасом может что-нибудь сравниться! О, пошлость, о, подлость! О, как я понимаю пророка с саблей, на коне: велит пророк и повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твоё это дело!» Вот чем полна душа Раскольникова и вот в каких выражениях Достоевский рисует нам положение своего героя. Разве не ясно, что и сам Достоевский забыл о «преступлении», которое он навязал Раскольникову и которое Раскольников никогда не совершил, несмотря на то, что напечатал в журнале статью на тему, что «всё позволено». Для Достоевского Раскольников — человек, которого, как ножницами, отрезало от всех и от всего, забытое Богом и людьми существо, обречённое уже здесь, на земле, на вечные адские мучения. Вспомните его разговор с проституткой Соней Мармеладовой. Раскольников пришёл к ней не за тем, чтоб каяться. До самого конца в глубине души он не мог раскаяться, ибо чувствовал себя ни в чём неповинным. Вот его последние размышления уже в каторге: «О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя (в убийстве). Он бы снёс тогда всё, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточённая совесть его не нашла никакой особенной ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться... Он не раскаивался в своём преступлении». В этих словах итог ужасной истории Раскольникова. Он оказался раздавленным неизвестно за что — ему не каяться нужно, ему нужно пойти куда-нибудь, к кому-нибудь, кто бы мог услышать его, понять его, отозваться на его муки. «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно быдо пойти»,— как говорит отец Сони, Мармеладов. К кому, куда? И вот он идёт к Соне Мармеладовой, такому же, как и он сам, раздавленному и отверженному всеми существу. У неё видит он Евангелие, книгу, которая была единственным предметом чтения Достоевского в течение его четырёхлетнего пребывания в тюрьме. И сразу просит её прочесть про воскресение Лазаря. «Странно было видеть,— рассказывает Достоевский,— как в этой маленькой комнате сошлись за чтением вечной книги убийца и распутница». Но, пожалуй, ещё страннее, что убийца и распутница искали в вечной книге не то, что в ней ищут просвещённые люди нашего времени, а то, что в ней всегда искал и находил и что превыше всего ценил Достоевский. Не моральные заповеди, которые из Писания перешли в нашу этику и нашей этикой оправданы и усвоены, влекут Раскольникова к себе. Все высокие моральные идеи он допросил, испытал и убедился, что отдельно взятые, вырванные из общего содержания св. Писания, они ему ничего не дают и дать не могут. Хотя он ещё и не смеет допустить мысли, что правда не у представителей положительного знания, а там, где написаны загадочные и таинственные слова — претерпевший же до конца спасётся, он всё же пытается обратить свой взор в сторону тех надежд, которыми живёт Соня Мармеладова. «Ведь она, думает он, как и я, тоже последний человек, ведь она на своём опыте узнала, что значит жить такой жизнью. Может быть от неё я узнаю то, чего не может объяснить мне мой учёный друг Разумихин, чего не угадывает даже безмерно любящее материнское сердце». Он пытается вновь воскресить в своей памяти то понимание Евангелия, которое не отвергает молитв и надежд одинокого, загубленного человека под предлогом, что думать о своей личной беде значит придавать слишком большое значение земному, низменному, преходящему. Он знает, что здесь скорбь его будет услышана, что его не отошлют на пытку к Гегелю и отвлечённым идеям, что ему позволено будет сказать всю ту внутреннюю страшную правду, которую он так неожиданно открыл в себе. Ведь в Писании сказано, что Бог есть любовь, что без воли Божией ни один волос не упадёт с головы человека. Но всего этого он может ждать лишь от того Евангелия, которое читает Соня, которое ещё не переделано новейшей просвещённой мыслью, превратившей слова откровения «Бог есть любовь» в разумную истину: любовь есть Бог, от того Евангелия, где наряду с нагорной проповедью — помещено сказание о воскрешении Лазаря, где, более того, воскрешение Лазаря, знаменующее собой всемогущество творящего чудеса, даёт смысл и остальным, столь недоступным и загадочным для бедного эвклидова человеческого ума словам. Подобно тому, как Соня и Раскольников, распутница и убийца, ищут своих надежд лишь в воскресении Лазаря, так и сам Достоевский видел в Писании не проповедь той или иной морали, а залог новой жизни — и это уже полностью сказывается в «Преступлении и наказании». От «религии в пределах разума», подменившей незаметно для всех слова Писания «Бог есть любовь» словами «любовь есть Бог», он рвётся обратно к истине откровения о живом Боге. Этому научился он от последних, забытых и отверженных всеми людей, у убийцы и распутницы. Это знали и чувствовали и каторжане. Когда им казалось, что Раскольников, так мало на них похожий, самим существованием своим как бы бросает вызов Писанию, они грозно кричали ему: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь. Убить тебя надо». И Дмитрий Карамазов, после того как судьи вынесли ему обвинительный приговор за совершённое не им убийство, непрестанно стал повторять: «Как я буду под землёй без Бога. Каторжному без Бога невозможно». В Дневнике писателя, значит в последние годы жизни, сам Достоевский, уже от собственного имени выразил это в словах: «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна. (Достоевский подчёркивает слово одна), и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные высшие идеи, которыми может быть жив человек, лишь из одной её вытекают». Во всех этих мыслях, навеянных Достоевскому ужасами жизни, открывшимися ему во время пребывания в каторге и чтением вечной книги, его неразлучной спутницы в этом периоде его жизни, и сказывается то, что Достоевский назвал «перерождением своих убеждений». Прежде он, следуя своим западным учителям, думал, что мораль может справиться со всеми вопросами, задаваемыми человеку жизнью. Он не замечал, как не замечали и все, с которыми он жил, что мораль сама по себе не защитит человека, брошенного в бесконечные пространства и времена, от бессмысленной жестокости произвола стихий. Теперь он узнал, что любовь к ближнему— не Бог, что любовь к ближнему при сознании, что ближний гибнет и ему нельзя помочь, превращается в ненависть, что под землёй жить без Бога невозможно, что неверие — самое ужасное преступление, за которое человека убить мало, что все идеи без одной высшей идеи — идеи Бога, и идеи бессмертия души, так же призрачны и так же легко обращаются в свою противоположность, как и бессильная любовь к человеку неизбежно должна превратиться в ненависть к нему. Вспомните то место «Исповеди» Ипполита, где рассказывается о картине Рогожина. Тема опять взята Достоевским из вечной книги, которую он противопоставляет истинам, естественно добываемым нашим разумом. «Природа (т. е. то, как мы себе представляем мироздание) мерещится при взгляде на эту картину (изображающую снятого с креста Иисуса) в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или гораздо вернее, хоть и сказать странно, в виде какой-то громадной машины, которая бессмысленно поглотила и захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо, которое одно стоило всей природы и всех её законов, которая и создавалась, может быть, единственно для одного только появления этого Существа». Вот как научился спрашивать Достоевский! И вопрос этот он вкладывает в уста юноши, которого тоже раздробил и уже собирается проглотить огромный, неумолимый и немой зверь. Что могут люди на такой вопрос ответить? Даже лучшие, такие, как главный герой «Идиота», князь Мышкин, могут предположить только бессильное смирение. Но бессильная добродетель возбуждает в Достоевском всё негодование, на которое он только был способен. «Для чего потребовалось смирение моё? Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело»,— говорит Ипполит. Не смириться, а уничтожить, истребить нужно отвратительное чудовище, хозяйничающее в жизни и безразлично и бесчувственно поглощающее всё, что придётся — и бедного, никому неизвестного юношу, и бесценное существо, которое одно стоило больше, чем весь мир. В рассказе «Кроткая», напечатанном в «Дневнике писателя», Достоевский с такой же силой повторяет свой вопрос по поводу безвременно погибшей молодой жизни: «Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже?.. Косность! О природа! Люди на земле одни — вот беда. Есть ли в поле жив человек? кричит русский богатырь. Кричу и я — не богатырь, и никто не откликается... Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание». Откуда пришла эта косность, эта безграничная власть смерти над жизнью, как бороться с ней и можно ли с ней бороться? Как Достоевский ответил на этот вопрос?
IV
Это нас приводит к «Запискам из подполья», одному из самых замечательных, но тоже из самых трудных, по сложности ч диалектических построений, произведений Достоевского, и к его же «Сну смешного человека». Если бы у нас в распоряжении было больше времени, следовало бы вслед за ними привести ещё хотя бы отрывки из написанного Достоевским в последние годы жизни рассказа «Сон», который по своей теме является как бы дополнением к «Запискам» и в значительной степени поясняет их, раскрывая их внутренний смысл и источник. Передам, по крайней мере, вкратце содержание «Сна», так как он мало известен читающей публике. Как значится у Достоевского в подзаголовке, «Сон смешного человека»— фантастический рассказ. Он начинается такими словами: «Я смешной человек. Они меня теперь называют сумасшедшим. Это было бы повышением в чине, если бы я не оставался для них таким же смешным, как и прежде». И вот с этим смешным сумасшедшим человеком произошло нечто совершенно необычайное. «Я, пишет он, хоть узнавал с каждым годом всё больше и больше о моём ужасном качестве (что я смешон), но почему-то стал спокойнее. Именно почему-то, потому что до сих пор не могу определить, почему. Может быть потому, что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое уже было бесконечно выше меня: именно постигшее меня убеждение в том, что на свете — везде всё равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне всё равно было бы, существовал ли бы мир или если бы нигде ничего не было. Сначала мне казалось, что зато многое было прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что никогда ничего не будет». И этот смешной человек, которому стало всё равно, при котором ничего не было и который убедился, что и вообще никогда ничего не было и никогда ничего не будет, принимает решение покончить с собой. Но тут — тоже вдруг (у Достоевского всё происходит вдруг) — смешному человеку открывается «новая истина». Причём самое поразительное, что эта истина оказывается не новой, а самой старой истиной, старой почти как мир, ибо она была возвещена человеку сейчас после сотворения мира. Была возвещена, вписана в книгу книг и тотчас же всеми позабыта. Вы догадываетесь, конечно, что дело идёт тут о грехопадении. Смешной человек, решивший уже покончить с собой, т.к. он убедился, что одна смерть владычествует в мире, уснул и во сне увидел то, о чём рассказано в Библии. Ему приснилось, что он попал к людям, ещё не вкусившим плодов от дерева познания, не знавшим ещё стыда, не имевшим знания, не умевшим и не хотевшим судить, — к людям, для которых, как и для первого человека, как для самого Творца — не всё было равно, а всё было «добро зело». «Дети солнца,— рассказывает он,— дети своего солнца — о, как они были прекрасны. Никогда не видал я на нашей земле такой красоты!» «Мне казалось неразрешимым, что они, зная так много, не знают нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже иные. Они не стремились к познанию жизни, как мы стремимся сознать её, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки, ибо наука ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать её, чтобы научить других жить. Они указывали мне на деревья свои... и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них... и знаете, я может быть не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык и я убеждён, что те понимали их». Но это только начало «фантастического рассказа». Самое неожиданное и самое потрясающее, для нас совершенно непривычное и неприемлемое впереди. Достоевский вдруг спрашивает: было ли это во сне или наяву. И отвечает, что было наяву. «Как же мне не верить, что это было, говорит он. Было, может быть, в тысячу раз лучше, чем я рассказал. Пусть всё это сон, но всё это не могло не быть. Знаете, я вам скажу секрет: всё это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло пригрезиться мне во сне. Пусть мой сон породило моё сердце, но разве одно мое сердце могло породить эту ужасную правду, которая потом случилась со мною?.. Неужели мелкое сердце моё или мой капризный ум мог возвыситься до такого откровения правды? О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я развратил их всех». Чем развратил человек земли обитателей рая? Он дал им наше знание, или, говоря словами Писания, убедил вкусить плодов от запретного дерева. И вместе со знанием пришли все земные ужасы, пришла смерть. «Они узнали стыд и возвели стыд в добродетель», комментирует Достоевский краткий библейский рассказ. Тут, вы видите, одной науки, одного знания было недостаточно — вместе с наукой выросла и самозаконная «этика». Мир оторвался от Творца и превратился в заворожённое «законами» царство, люди из свободных существ превратились в безвольные автоматы. Вот содержание рассказа. Вы видите, что эту правду Достоевский не сам выдумал, не мог сам выдумать. Он оттого и говорит об откровении правды, что правда ему открылась. Это та правда, которая — хотя она всем известна, ибо записана в книге, наиболее читавшейся людьми, всё же остаётся правдой сокрытой. Но когда Достоевскому открылась правда, он уже не мог больше ни думать, ни чувствовать, как все. Все, «всемство» — слово, до Достоевского совсем не существовавшее в русском языке и им самим придуманное — для него являются носителями первородного греха, все их истины, все их идеалы кажутся ему ложными и губительными. Он, конечно, никогда Гегеля не читал и не знал, что Гегель самодовольно провозглашал, что, вопреки Писанию, плоды с дерева познания зла и добра стали источником философии для всех будущих времён, но, и не читая Гегеля, он чувствовал, что «все мы», «всемство» насквозь пропитаны убеждением истинности того, что провозгласил Гегель. И именно потому он с такой страстью восстаёт против того, чему все мы поклоняемся. Его вызывающие слова «зачем познавать это чортово добро и зло», равно, как и все те сарказмы, которыми пересыпан его рассказ «Записки из подполья», есть отчаянная и неслыханная по смелости попытка вытравить из сознания падшего человека то, в чём он, заворожённый грехом, видит истину и добро. Наши истины, то, что нам кажется наиболее непреложным и несомненным, есть не истина, а ложь, а то, что мы считаем добром, есть не добро, а ложь. Ведь наш разум открыл нам истину, что глухая, ко всему безразличная и немая природа бессмысленно поглотила и раздробила великое и бесценное существо, которое одно стоило всей природы и всех её законов, а наша совесть, не смеющая с разумом спорить и в этом «смирении» своём усматривающая свою величайшую добродетель, требует от нас смиренного принятия того, что мы изменить не в силах,— и мы безвольно покоряемся. Пока мы во власти истин и идеалов всемства — мы обречены на все ужасы бытия, неизбежно ведущие к вечной гибели. Оттого всемство — наш величайший и самый страшный враг, с которым нужно бороться не на жизнь, а на смерть. В «Записках из подполья» и осуществляется эта борьба. Достоевский на всё, что утверждает «всемство», отвечает самым резким отрицанием, на всё, что оно благословляет — проклятием. Даже дважды два четыре не находит себе пощады у Достоевского.
Дважды два четыре — есть уже не жизнь, а начало смерти, дважды два четыре — есть нахальство, заявляет он. А смирение, проповедуемое тем, для кого всё действительное разумно, и вызвало то дерзновенное восклицание Достоевского, которое я уже не раз приводил: пусть лучше провалится мир, а чтобы мне чай был. Ибо наше смирение есть смирение перед глухой и бесчувственной природой: может ли быть что-нибудь отвратительней и позорней этого? Но наибольший гнев, раздражение и презрение вызывает в Достоевском готовность всемства, или, как он выражается, «непосредственных людей», преклониться перед силой, перед «каменной стеной». Он неисчерпаем в сарказмах, насмешках, но вместе с тем и в самых глубоких и тонких диалектических аргументах по поводу теорий, возводимых в непреложные истины этим всемством, аргументов, которым может позавидовать любой из знаменитых философов. Быть может, здесь будет уместно напомнить о Паскале. Правда, Достоевский почти о Паскале не говорит и, по-видимому, мало знал его, но Паскаль Духовно является самым близким Достоевскому человеком. (...)
Все нападки Паскаля на нашу жалкую мораль и наш бессильный разум повторены с новой силой в сочинениях Достоевского: его постоянная тема, как это видно из только что приведённых отрывков его записок, чисто паскалевская: cette belle raison corrompue a tout corrompu*. «Парадоксы» Достоевского о наших истинах скрывают под собой знаменитое паскалевское: «cela voua fera croire etvous ahetira.** и вдохновляла на борьбу со «всемством» Достоевского та же идея, которая была дороже всего Паскалю, которую он записал на обрывке бумаги, найденной зашитой в подкладке его платья: Dien d'Abraham, Dien d' Jsaac, Dien de Jacob — Non des philosophes et des savants***.
* этот прекрасный разум, совсем развращённый (франц.)
** это заставит вас думать и сделает дураком (франц.)
*** Св. Авраам, св. Исаак, св. Иаков — не философы и не учёные (франц.)
V
Мы закончили указанием на духовное родство Паскаля и Достоевского. И тот и другой, глядя.на ужасы мира, теряют доверие к тому, что нам приносит объективное знание. «Je n'approuve que ceux qui cherchent en gemissent», говорил Паскаль, — все разыскания истины Достоевского отмечены великой скорбью человека, прозревшего всю глубину страданий, выпавших на долю людей, променявших откровенную истину на плоды с дерева познания добра и зла. И наша наука и наша высокая мораль — то, в чём мы привыкли видеть надёжнейший и вернейший оплот против всех сомнений и искушений, вызывает в них лишь отчаяние. Один из замечательнейших представителей современной философии торжественно заявляет: «быть может, во всей жизни новейшего времени нет идеи, которая была бы могущественнее, неудержимее, победоноснее идеи науки. Её победоносного шествия ничто не остановит. Она на самом деле оказывается совершенно всеохватывающей... Если мыслить её в идеальной бесконечности, то она будет самим разумом, не признающим наряду с собой никакого авторитета». Паскаль, точно вперёд отвечая нашему времени, пишет: «quand un homme serait persuade que les proportions des nombres sont des verites immaterielles, eternelles et dependantes d'une premiere verite en qui elles subsistent, et qu'on appelle Dieu, je ne le trouverai pas beauncoup avance pour son salut»*. Вы видите, что Паскаль восстаёт не против грубого, элементарного материализма: самый высокий научный идеал, выражающийся в нематериальных, вечных истинах, коренящихся в единой первой истине, его так же отталкивает и кажется ему столь же предательским, как и вульгарный материализм. Только тот Бог, который открыт Св. Писанием, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, может утолить и успокоить его измученную и мятежную душу. Совсем то же мы наблюдаем у Достоевского, и в этом смысле его последние произведения — «Бесы», «Идиот» и «Братья Карамазовы», являясь развитием тех идей, которые положены уже были в основу «Записок из подполья», доходят до силы поистине потрясающей. Размышления Ивана Карамазова, «Исповедь» Ипполита в «Идиоте» и свидетельствуют, что по напряжению и пафосу писания Достоевского временами не уступают книге Иова. Теперь мы должны хоть на короткое время остановиться на «Бесах» и на поэме Ивана Карамазова «Легенда о Великом инквизиторе» — и тогда нам окончательно выяснится, какой смысл имело и в чём состояло «перерождение убеждений» Достоевского, и что это перерождение было в сущности тем, что Паскаль называл своим обращением. Несмотря на сложную и запутанную фабулу, в основе «Бесы» являются продолжением той отчаянной борьбы с «каменной стеной», с «дважды два четыре», с «невозможностями», вернее с тем отвратительным, бессмысленным, ко всему безразличным чудовищем, в распоряжение которого наш разум вольно и невольно отдал судьбу людей и мира. Наша уверенность в безграничной власти этого чудовища представляется Достоевскому — опять тут можно вспомнить паскалевские слова — un enchantement incomprehensible et un assonpissement surnaturel**! Все герои «Бесов» — и не только Кириллов и Шатов, но и Ставрогин — в конце концов только повествуют нам о том, как Достоевский, подобно Мите Карамазову, всю жизнь мучился Богом. Вот разговор между Шатовым и Ставрогиным, в котором раскрывается, что вдохновляло Достоевского, когда он писал своих «Бесов». Ставрогин в самых цинических выражениях, которые Достоевский так мастерски умел подбирать, начинает допрашивать Шатова о том, верующий ли он. «Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! — весь вдруг задрожал Шатов.— Извольте другими,— сурово посмотрел на него Ставрогин.— Я хотел только узнать, веруете ли вы сами в Бога или нет.— Я верую в Россию, я верую в её православие, я верую, что новое пришествие случится в России... Я верую...— залепетал в исступлении Шатов.— А в Бога, в Бога? Я... я буду веровать в Бога». Такой разговор, отражающий собой наиболее тяжкие и глубокие моменты душевной борьбы самого Достоевского, станет понятным, если мы вспомним, что сам Ставрогин ещё задолго до этой беседы говорил Шатову: «Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра хотя бы приблизительно; напротив, всегда жалко и позорно смешивал; наука же давала разрешения кулачные». Наука давала разрешения кулачные. Это значит, что в последнем счёте бездушная, вернее ко всему равнодушная сила получала, через науку, власть над судьбами мироздания и человека. Эта мысль была для Достоевского совершенно невыносима. А между тем он чувствовал, что люди ей покорились и, как ему временами казалось, покорились навсегда и окончательно, даже радостно. Причём не худшие, не самые слабые, не нищие духом покорились, а лучшие, сильные, богатые духом. Она пропитала собой всю нашу культуру — искусство, философию, этику, даже религию. И Шатов и Ставрогин не за себя говорят, они открывают лишь нам, какими мучительными сомнениями была обуреваема душа самого Достоевского. Самое ужасное было для него сознание, что временами его интеллектуальная добросовестность требовала от него тех признаний, которые сделал Шатов Ставрогину или, точнее, которые Ставрогин почти насильно вырвал у Шатова: верую в православие... но в Бога не могу верить. Быть может, это самое великое искушение, которое могла уготовить себе и вынести измученная человеческая душа: Религия ещё возможна, но Бога нет, Бог невозможен или, вернее, невозможен тот Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, о котором говорится в Писании и которого призывал Паскаль, а возможен лишь бог философов — т. е. наряженное в пышные и торжественные одежды чудовище, раздробляющее и поглощающее всё, что есть в мире, и не остановившееся пред тем, чтоб раздробить и проглотить даже то существо, которое одно было более ценно, чем всё мироздание. При мысли о том, что на престоле Бога воссядет это чудовище и будет для всех как Бог — это ведь основная мысль Апокалипсиса, откровения Св. Иоанна,— Достоевский испытывает те припадки безысходного, неудержимого отчаяния, которые являются, по-видимому, условием рождения великих, последних постижений и того необычайного подъёма сил, который такими постижениями предполагается. Уже «Бесы» — одно заглавие чего стоит — показывают нам с нестерпимой почти для нас наглядностью, во что превращается человеческая жизнь, оторванная знанием от её Творца. Мы задыхаемся, и все действующие лица «Бесов» задыхаются в тяжёлой и смрадной атмосфере бессмысленно взбаламученных человеческих страстей. В «Братьях Карамазовых» изображаются не менее потрясающие картины жизни людей, утративших связь с живым Богом. Но своего кульминационного пункта ужасы доходят в «Исповеди» Великого инквизитора. Великий инквизитор, как и герой «Записок из подполья», как юноша Ипполит из «Идиота», как Ставрогин, Кириллов и Шатов из «Бесов», — все они на разные лады повторяют и развивают ту последнюю и страшную мысль, которая родилась у Достоевского, когда он вместе с гуманизмом принял от своего учителя, Белинского, непосильную для человека задачу добиться отчёта о судьбе всех жертв истории, случайностей и т. д. и т. д. Есть ли кто-нибудь в мире, к кому можно с таким вопросом обратиться? Шатов сказал Ставрогину, что он будет верить в Бога, и таким тоном сказал, что всякому ясно, что ни он, ни Ставрогин в Бога верить никогда не будут. Всё, что мы слышим от Великого инквизитора в сочинённой Иваном Карамазовым поэме, таит в себе то же признание. Вот в каких словах сам Великий инквизитор формулирует это, обращаясь к пленённому им Христу. «И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с кем говорю?.. Может быть, Ты именно хочешь услышать её из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна». С ним — т. е. с тем, который пришёл в храм и сел на престол Бога. Кто так говорит? Не человек, «желающий лишь только материальных, грязных благ», как выражается о нём Иван Карамазов, «а тот, кто сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но, однако же, всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ Божиих остались устроенными лишь в насмешку. В этих словах Достоевского снова доносится до нас то, что когда-то его учитель, Белинский, высказал в своём знаменитом письме: не хочу ни совершенства, ни счастья, ни всех блаженств, о которых твердят мне мудрецы, если не буду спокоен за всех своих братьев по крови. С верхней ступени бросаюсь вниз головой — совсем, как Великий инквизитор — к врагу человеческого народа. И казалось бы, после того, как пред лицом самого Бога инквизитор произнёс своё кощунственное: «мы не с Тобой, а с ним», — земля должна была расступиться пред несчастным и поглотить его, обречённого на вечные муки. Но в легенде Карамазова конец другой: «Узник всё время слушал его, проникновенно и тихо смотря ему прямо в глаза и, видимо, ничего не желая возразить. Старику хотелось бы, чтоб тот сказал ему что-нибудь, хотя бы горькое и страшное. Но Он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в бескровные девяностолетние уста». Так Бог Писания отвечает на величайшую хулу на него. И вот когда Достоевскому открывается эта великая, непостижимая для нашего эвклидова ума истина, в нём происходит то загадочное преображение, которое он назвал перерождением своих убеждений. Не любовь есть Бог, а Бог есть любовь. Не немощная, бессильная любовь,, которая может лишь обливаться слезами над затравленным собаками мальчиком, над бьющей себя кулачонком в грудь девочкой, замученной своими собственными родителями, над несчастным Ипполитом, осуждённым без вины на смерть и т. д., а любовь того, кто мир сотворил и воле которого все покорны. В такие минуты Достоевский преодолевает и «дважды два четыре», и «каменные стены», и «законы природы», и то страшное чудовище, которое проглотило всё, что было в мире самого ценного, — в такие минуты он пишет «Мальчика у Христа на ёлке» — его ответ на страшный и как бы не допускающий никакого ответа вопрос Белинского. Любовь — за которой стоит всемогущий Бог, уже никогда не обратится в ненависть. Ибо Бог защитит и успокоит тех, кто не нашёл защиты и успокоения ни у людей, ни у человеческой мудрости. Чтоб обрести эту истину, Достоевский прошёл сам и провёл нас всех через те ужасы, которые изображены в его сочинениях, показал нам земной ад, как некогда Данте показал ад потусторонний. Из глубин ужасов и последних падений он научился взывать к Господу. Я вспомнил сейчас его «Мальчика у Христа на ёлке».
Так ответил Достоевский в последнем счёте на заданный ему учителем неразрешимый вопрос. Чем ночь темней, тем ярче звёзды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Голос Достоевского всё растёт и крепнет и достигает неслыханной силы. Иной раз кажется, что слышишь не слова Достоевского, а один из несравненных псалмов царя Давида. Я и закончу свои беседы одним из таких отрывков. «Алёша Карамазов, вдруг повернувшись, вышел из кельи почившего старца. Он не остановился и на крылечке, но быстро сошёл вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звёзд. С зенита до горизонта двоился ещё неясный Млечный путь. Светлая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звёздною... Алёша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал её, он не давал себе отчёта, почему ему так неудержимо хотелось целовать её, целовать её всю, но он целовал её, плача, падая и обливая её своими слезами и исступлённо клялся любить её, любить во веки веков. О чём плакал он? О, он плакал в восторге своём даже и об этих звёздах и не стыдился исступления своего. Как будто нити от всех этих миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь мирам иным».
* Я вижу, что человек не поторопится протянуть руку для приветствия Богу, когда убедится, что количественные соотношения являются не материальными истинами, вечными и зависящими от первоначальной истины, в которой они существуют и которая называется Богом (франц.)
** Непонятное очарование и сверхъестественная беспечность (франц.)