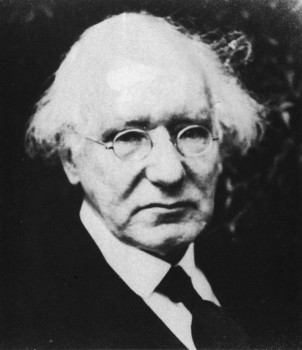Находится ли религия в состоянии разложения (dissolution) или эволюции (évolution)?
Запрос журнала «Mercure de France».
Ε Ι
Надпись на дельфийском храме.
I
Современный кризис индивидуализма не есть явление только нормативного порядка, обусловленное передвижениями ценностей в сфере нравственного самоопределения личности, — но коренится он в росте и изменении самого сознания личности; утончение и углубление личного сознания, дифференцируя его, разрушило его единство.
Где я? где я?
По себе я
Возалкал.
Я — на дне своих зеркал.
(Прозрачность).
Этот стих, который не был бы понятен в прежние времена никому, кроме людей исключительной и внутрь устремленной созерцательности, выражает едва ли не общеиспытанный психологический факт в ту эпоху, когда наука не знает более, что такое я, как постоянная величина в потоке сознания.
Метафизика (возьмем в пример хотя бы учение о характере эмпирическом и умопостигаемом) и нравственная философия, гносеология и психология, «рефлексия» наших дедов и явления умственной и душевной жизни, обнаружившиеся к концу прошлого века в формах эстетического иллюзионизма, импрессионизма и, наконец, символизма, как специфической художественной секты и школы, не оставили нам не только старинного «cogito, ergo sum», но даже и его элементов: ни «cogito», ни «sum» (мы легче поняли бы: fio, ergo non sum).
Какой-то невидимый плуг, в наступившие сроки, разрыхлил современную душу — не в смысле изнеможения ее внутренних сил. но в смысле разложения того плотного, непроницаемого, нерасчлененого сгустка жизненной энергии, который называл себя «я» и «цельною личностью» в героическую пору непосредственного индивидуализма. Это разрыхленное поле личного сознания составляет первое условие для всхода новых ростков религиозного мировосприятия и творчества.
II
Религия начинается в мистическом переживании (каковым в древнейшие времена является оргиастическое исступление) в момент дифференциации этого переживания, представляющей его сознанию, как «одержание», т. е. исполнение души божеством, в нее вселяющимся и ею овладевающим. Экстаз есть раскрытие антиномии личности; и только тогда мы вправе утверждать, как совершившийся факт, религию в смысле душевного события, когда нам предстоит наличность внутреннего опыта, раскалывающего наше я на сферы «я» и «ты».
Доколе человек называл «ты» существа, вне его «я» сущие, могла быть — скажет отвлеченно мыслящий (хотя историк знает изначальность внутреннего переживания в происхождении вер) — могла быть только religio в исконном смысле италийского слова: в смысле боязливой почтительности по отношению к окружающим человека духам и осторожной «оглядки» на их скрытое присутствие, на заповедные их области и на все права их, не нарушаемые безнаказанно. Но то, что есть религия воистину, родилось из «ты», которое человек сказал в себе тому, кого ощутил внутри себя сущим, будь то временный гость или пребывающий владыка.
III
Переживания экстатического порядка суть переживания женственной части я, когда Психея в нас высвобождается из-под власти и опеки нашего сознательного мужеского начала, как бы погружающегося в самозабвение или умирающего, и блуждает в поисках своего Эроса, на подобие Мэнады, призывающей Диониса. Ибо эта женственная часть нашего сокровенного существа утверждает свою обособленную жизнь только при угашении внутреннего очага наших мужественных энергий, подобно тому, как Ева возникает во время сна Адамова. Духовный стимул, побуждающий ее к этому угашению, может иметь такую напряженность, что она самопроизвольно и насильственно нейтрализует влияния мужеского я и как бы жертвенно умерщвляет его, внутренне воспроизводя собою пластический тип Мэнады — жрицы и мужеубийцы.
Таковою представляется нам природа того «исступления» или «выхождения из себя», которое в психологическом феномене являет снятие и упразднение граней личного сознания.
IV
Продолжим образное изъяснение экстатических состояний, в лоне которых совершается религиозное событие, — какими они открываются нашему анализу.
Блуждая по периферии сознания, Психея ищет лучей духа, исходящих из нашего божественного центра, из того Абсолютного в глубочайшей святыне нашего духовного существа, имя которому в учении браманов — Атман и «Сам», в христианской мистике — Небо и Отец в Небе. Но эти духовные лучи реализуются для Психеи в ипостаси богосыновства: никто не приходит к Отцу иначе, как чрез Сына. Эрос, по которому тоскует Психея-жена, коего призывает Мэнада-мать, — чьи рассеянные члены собирает Изида-вдова, — есть Сын. И на зовы Психеи-Мэнады мужское я как бы воскресает из смертного сна и облекается в светлое видение Сына, — если его умопостигаемое самоопределение есть в своей сущности тяготение к «светлейшему солнца» и сверхличному средоточию личного бытия, если его последняя сокровенная воля, in potentia, — не его воля, но воля Отца.
Тогда Психея узнает своего Жениха, так приближающегося к ней из глубины личного сознания в образе воскресшего я, — как проснувшийся сын Божий (Лк. 3:38) — Адам — приближается к своей новозданной невесте. Тогда Мэнада (Гиппа неоплатоников) принимает в свою колыбель-кошницу новорожденного младенца Диониса, — что́ соответствует, в учении Мейстера Экгарта, мистическому моменту рождения Христа в я. Тогда, как Лазарь, выходящий из гроба, пробуждается, посвящаемый в египетские мистерии от смертного сна при кликах, приветствующих воскресшего «Озириса». Так луч Духа, брызжущий из божественного средоточия существа человеческого, пресуществляет психическую субстанцию погруженного в сон мужеского я и, воскрешая, воссоздает его, преображенного, в лике богосыновства.
В слиянии Психеи с преображенным я, разоблачающимся в эпифании Вакха, сына Диева, с завершением цикла правого вакхического безумия, восстановляется сознание личности; но восстановленная личность высветлена, «очищена» и «освящена», по выражению древних. Это освящение состоит в том, что мужеское я в человеке осознало себя, — хотя бы тускло и на миг, как это бывало в эллинской катартике, — в ипостаси сыновней. И не случайно, в священной терминологии Дионисова культа, эта полнота внутреннего слияния личного я с Богочеловеком-Сыном означается наименованием «вакха», применяемым ко всем правым служителям дионисийских таинств, а в символике египетских посвящений — именем «Озириса».
V
Желающий сохранить себе душу свою, теряет ее и губит: закрепощение Психеи нашему сознательному мужескому началу убивает ее вдохновенный почин. Мэнада стремится в простор и одиночество, послушная голосу, ей ведомому: одинокой до времени должна она блуждать и томиться в священной тоске.
С другой стороны, опасности, навстречу которым она устремляется, оправдывают завет попечения о «спасении души». От предоставленного нашему мужескому началу выбора между конечным богопротивлением и осуществляющимся богосыновством, между сверхличным изволением и личным отъединением, последняя ступень которого в микрокосме соответствует макрокосмическому отпадению Сатаны от Бога, — зависит, в случае демонического самоопределения нашей умопостигаемой воли, «одержание» Психеи силами, чуждыми естества Дионисова, ее пагубное неистовство, «неправое безумие», роковая «Лисса» древних.
Отвращение от сверхличного начала, полагаемого нами в средоточии сознания, уклоняет волю мужеского я к его периферии, где освобождающаяся Психея встречает его в образе враждебного преследователя или коварного соблазнителя.
Она может бежать и удалиться от него или восстать и напасть на него, подобно Мэнаде Агаве, убийце Пентея: такой раскол сознания не может не проявиться в том или ином виде душевной болезни, в безумии или отчаянии. Соблазненная же и предавшаяся, Психея повторит в своем переживании миф о Еве и Змии и послужит орудием мрачного самоутверждения личности, замкнувшейся в своих пределах и удалившейся от начала вселенского, — в каковом удалении и отъединении мы усматриваем содержание метафизического грехопадения, темной «вины своевольных предков», о снятии которой молились орфики, разумея под нею предвечный разрыв Диониса Титанами — это мифическое отображение «начала индивидуации» (principii individuationis).
VI
Правая молитва, которой учил Христос, начинается с волевого акта, обращающего наше личное сознание к сверхличному, — с утверждения нашего богосыновства: «Отец наш», — «Ты» в нас.
Выражение «небо» (οὐρανός) и небеса (οὐρανόί) принадлежат к сокровенному в евангельском учении, к новозаветным arcana.
Небо в человеке; оно разоблачается в его сознании чрез внутренний поворот воли (μετάνοια). Торжествующее в человеке внутреннее Небо есть «царство небес». В глубине нашего Неба есть Отец (ὀ ἐν τοῖς οὐρανοῖς). Совершенное излучение воли Его в нас, просветляющее всю среду и как бы самую поверхность (периферию или «землю») нашего сознания, есть осуществление воли Отца «на Земле». Тогда сокровенное имя Отца в нас «освятится» (аорист ἀγιασθήτω), т.е. прославится в нас (чрез мистическое поглощение я в Ты), потенциальное Имя станет реальным, мы будем целостно совершенны, как Отец в Небе.
Прошение о «хлебе насущном» (присоединенное к словам «на земле» (ἐπὶ τῆς γῆς) есть сокровенная мольба о питании периферии человеческого сознания из божественного средоточия Небес. Прошение «об оставлении долгов» заключает в себе энергию, ослабляющую связи природной необходимости. Моления о «невведении во искушение» и «избавлении от лукавого» предохраняют от дурной зеркальности мистического богоутверждения в нас, могущей привести внешнего человека к самообожествлению.
VII
Разложение единства личного сознания предуготовляет в современной душе углубленнейшие проникновения в таинства микрокосма. С этими проникновениями связана, по нашему мнению, судьба религии в ближайшем будущем. Из микрокосма, как из горчичного зерна, должно вырости грядущее религиозное сознание, — тогда как большинство исторических вероучений (считая в их числе и церковное вероучение так называемого «исторического христианства») отправлялось от идеи макрокосма.
«Небо» в нас; «Ты» в нас, к совершенству которого, как к своему математическому пределу, должно приближаться наше сыновнее Я, до отожествления своей воли с Его волей, наша периферическая Психея, душа Земли в нас, ждущая разоблаченного Сына в нас, как истинного Жениха своего, чтобы через него осуществить «на Земле» волю «сущего в Небе», и потому вдохновенно вырывающаяся из плена нашего эмпирически-сознательного, мужеского я, подстерегающая его сон, хотящая его временной смерти для лучшего воскресения в Духе, готовая убить его, как безумная Агава лже-разумника Пентея, — вот элементы, различаемые нами в мистическом сознании личности в этот переходный и критический момент нашей религиозности, как некоторые первоначальные намеки и просветы внутреннего опыта, наиболее доступные современной душе, тоскующей о «Ты» в своих глубочайших переживаниях и только еще мистически настроенной, еще не могущей быть религиозной вследствие неведения этого «Ты».
Когда современная душа снова обретет «Ты» в своем «я», как его обрела душа древняя в колыбели всех религий, тогда она постигнет, что микрокосм и макрокосм тожественны, — что мир внешний дан человеку лишь для того, чтобы он учился имени «Ты» и в недоступном ближнем и в недоступном Боге, — что мир есть раскрытие его микрокосма. Ибо то, что религиозная мысль называет первобытным раем, есть нормальное отношение макрокосма и микрокосма, — ноуменальное всечувствование вещей, как равно и тожественно сущих вместе внутри и вне человека, сына Божия; и только грехопадение, только титаническое растерзание единого сыновнего Лика положило непроходимую для сознания границу между ноуменально непостижимым макрокосмом и внутренне распавшимся в себе микрокосмом, которого благодатное воссоединение в Духе стало для человеческого индивидуума единственно возможным в чудесные и жертвенные мгновения правого религиозного восторга.
Вяч. И. Иванов. Собрание сочинений. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 262-268.