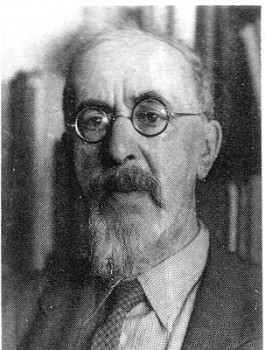I
Слово «сознание», которое, на первый взгляд, все понимают одинаково, т.е. относят к одному и тому же кругу явлений, в действительности есть одно из самых многозначных и неопределенных слов человеческого языка. Наметим главные, существенные для психологии значения, в которых может употребляться это слово.
В самом широком и общем смысле слово «сознание» употребляется, например, в приведенном выше допущении, что всякое душевное явление есть «явление сознания». Сознание в этом смысле неопределимо, ибо есть некоторая первичная и неразложимая черта. Мы можем лишь указать на его значение косвенно, направив, посредством некоторых намеков и символических описаний, внимание читателя на надлежащую область явлений. В этом смысле мы могли бы сказать, что сознание есть некоторого рода непосредственная самоявственность, некое «для-себя-бытие», самопроникнутость, как бы внутренняя прозрачность душевных явлений. Уловить эту черту весьма легко — она знакома всякому. При этом, однако, очень важно не вкладывать в это понятие иных, добавочных смыслов, кроме того, который ему действительно присущ, т.е. ясно отличать «сознание» в этом широком, общем значении от более узких возможных его значений. Так, при невнимательном отношении к делу легко кажется, что сознание в этом смысле равносильно знанию переживаемого, тому, что часто называется «внутренним восприятием». Но ведь если бы это было так, то все люди с самого своего рождения — более того, всякое «одушевленное существо» вообще — были бы тем самым всеведущими и непогрешимыми психологами. Ясно, что иметь или «сознавать» душевное переживание и знать его — суть разные состояния. Не углубляясь здесь в уяснение точного смысла этого различия, скажем пока, что сознание шире знания тем, что оно охватывает и безотчетные, неуясненные состояния самопроникнутости или «бытия-для-себя». Но, может быть, это значит, что мы сознаем нашу душевную жизнь только неотчетливо, что она предстоит нам в смутном виде, вроде предметов, удаленных от нашего взора, например букв книги, находящейся на таком расстоянии от нас, при котором мы уже не разбираем их, или вроде предметов в полутьме? Это допущение тоже соблазняет своей правдоподобностью, но и оно неверно, ибо сужает сферу сознания, отождествляя ее лишь с одной, частной в отношении ее, областью явлений. Смутные представления или восприятия, хотя и не суть (в той мере, в какой они смутны) знание, суть все же познавательные содержания; они сознаются нами в особой форме предметов, которые предстоят или противостоят нам и на которые мы направлены. Они характеризуют, поэтому, лишь особую группу душевных явлений, которым присуща черта направленности, и притом только одну сторону этих явлений, именно саму цель или мишень, на которую мы направлены, тогда как самосостояние направленности «сознается» при этом уже лишь в обычном, широком смысле, т.е. как всякое иное наше переживание. Именно потому, что в такой форме смутного познавательного содержания нам предстоит всегда лишь что-нибудь отдельное, — будь то предмет внешнего мира или какое-либо явление душевной жизни, — все остальное содержание душевной жизни (включая и само переживание направленности) в этот момент «сознается» нами уже в иной форме. Оно не есть ни ясное, ни смутное содержание или предмет познания, оно не предстоит или противостоит нам, оно просто есть в нас или, вернее, есть мы сами. Общая сознаваемость всей душевной жизни есть именно, за указанным исключением, намеченная нами непосредственная прозрачность, живое бытие-для-себя, принципиально отличное, как это явственно показывает внимательное наблюдение, оттого характера сознания, который присущ для нас «предметным содержаниям».
Сказанным мы уже наметили и второй смысл, в котором часто употребляется слово «сознание». Когда мы говорим о ком-либо, что он «не сознает» чего-либо, например, угрожающей ему опасности, важности или трудности предстоящей ему задачи, когда мы требуем, чтобы человек «отнесся сознательно» к нашим словам и т.п., под словом «сознавать» мы понимаем «отдавать себе отчет», т.е., проще говоря, знать что-либо, отчетливо различать содержания предмета. Понятие сознания как знания, однако, по большей части сливается с несколько более широким, только что упомянутым нами понятием «внимательного отношения» или «направленности на предмет» вообще. Не все, что мы хотим знать, нам удается действительно знать; сфера подлинно познанного всегда уже сферы познаваемого. Но как ни важно различие между познанным и не познанным, практически в нашей жизни — а потому и теоретически, для уяснения понятия сознания — еще важнее различие между наличностью и отсутствием познавательного отношения вообще. Первая задача умственного воспитания — заставить человека вообще думать о чем-либо, развить в нем «умственный интерес», «внимание», т.е. в этом смысле сделать человека сознательным существом: кто имеет привычку или склонность обращать внимание на вещи, познавательно направляться на них, тот уже стоит на пути знания, все равно, сколько бы ему ни удалось актуально познать. Различие между познающим и непознающим — как бы между бодрствующим и дремлющим сознанием — неизмеримо значительнее, чем различие между знающим и не знающим. Это различие, впервые намеченное Лейбницем, как различие между «апперцепцией» и «перцепцией», заставляет весьма часто называть сознанием вообще только бодрствующее, внимательное, обращенное на предмет сознание. Сознание в этом смысле есть то, что мы назвали выше «предметным сознанием». В нем единое переживание, в котором переживаемое слито с самим процессом переживания, сменяется характерной двойственностью между противостоящим нам предметом и нашей устремленностью на него. В лице его наша душевная жизнь как бы выходит за свои пределы, и устанавливается связь между нашим «я» и окружающим нас миром. То самое, что в простом переживании было только нашим внутренним состоянием, становится здесь самостоятельным, вне нас сущим предметом, на который направлено наше сознание. Всякий может воспроизвести это типичное различие, вспомнив, например, переход от полудремоты, предшествующей пробуждению, к самому пробуждению, когда смутные, невыразимо слитые с нашим самочувствием грезы или кошмары вдруг преобразуются в различенные и знакомые предметы вне нас; а более тонкое самонаблюдение обнаруживает то же самое и в каждое мгновение нашего бодрствования. Как возможно это предметное сознание — это есть основной вопрос теории знания, который нас здесь не касается. Для нас достаточно отметить, что сознание в смысле «предметного сознания» есть нечто, характерно и резко отличное от сознания, присущего душевной жизни как таковой.
Но здесь тотчас же бросается в глаза и третье существенное значение слова «сознание». Это есть область, как бы сопутствующая «предметному сознанию» и вместе с тем в известном смысле прямо противоположная ему. Когда мы требуем от человека, чтобы он «сознательно отнесся» к чему-либо, когда мы говорим о развитии «сознательности», то мы подразумеваем обыкновенно двоякое: с одной стороны, возникновение, как бы выделение предметного сознания из состава сознания-переживания, и, с другой стороны, выделение, как бы на противоположной стороне душевной жизни, того ее ядра или средоточия, которое вместе с тем служит руководящим и господствующим началом и которое мы называем нашим «я». Сознание в этом смысле тождественно с самосознанием. Самосознание есть, быть может, наиболее распространенный и существенный смысл слова «сознание». В древности, которой — как это ни кажется нам странным — вообще понятие сознания было чуждо, оно было впервые введено стоиками, как со-знание ( sunaisqhsiz ) т.е. как высшее, общее знание о нашем «я», сопутствующее всем частным ощущениям и впечатлениям. Оно имело прежде всего практический смысл: сознание должно было быть со-ведением, совестью — той стороной сознания, которая главенствует над остальными и через посредство которой разум управляет нашими страстями, стихиями нашей душевной жизни. И когда, при возникновении новой философии, понятие сознания было вновь использовано и получило на этот раз широкое распространение, импульсом к этом}' послужил глубокий индивидуализм эпохи Возрождения, обостренное и усилившееся самосознание нового человека. Декартово «Cogito ergo sum», проложившее путь понятию сознания, наметило сознание именно в лице самосознания, как самоочевидной и ближайшей человеку реальности. Возникновение предметного сознания есть, как было указано, выделение «не-я» из состава сознания-переживания; но «не-я» предполагает соотносительное себе «я», и, таким образом, вместе с «не-я» и рождается и «я». Правда, это может означать простое отграничение сферы предметного бытия от «душевной жизни», и в таком случае «я» есть лишь иное обозначение для «душевной жизни». Но обыкновенно это имеет еще и иной смысл. Возникновение предметного сознания не только ослабляет значительность душевной жизни, отодвигает ее на задний план, как бы в глубь сознания, но по большей части и качественно изменяет ее. Дифференциация сопровождается интеграцией. Душевная жизнь, перестав быть сплошным бесформенным целым, как бы выпустив из себя щупальца, направленные вовне, вместе с тем сосредоточивается, уплотняется изнутри. По меньшей мере всякое практическое предметное сознание сопровождается этим характерным образованием «ядра» душевной жизни: когда мы «сознательно» относимся к предмету практически, т.е. оцениваем его, любим или ненавидим, стремимся к нему или отталкиваемся от него, то мы вместе с тем имеем типичное сознание «умышленности», т.е. сознаем, что это отношение есть связь между предметом и нашим «я» как средоточием или ядром нашей душевной жизни. В чистой душевной жизни, — все равно, объемлет ли она все наше сознание, как в описанных состояниях дремоты или возбуждения, или существует рядом с предметным сознанием, но вне живой связи с последним, лишь как невытесненный остаток той же самодовлеющей стихии — не мы стремимся и отвращаемся, любим и ненавидим, действуем, хотим, а в нас что-то стремится и отвращается, нас куда-то тянет, или, вернее, — как об этом подробнее в своем месте — здесь еще нет никакого «мы», отличного от самих стремлений и тяготений. Но в душевной жизни, поскольку она состоит именно в действенной направленности на предмет, имеется всегда и живое присутствие единого центрального субъекта этой направленности. Быть сознательным — значит в этом смысле преобразовать безразличное единство душевной жизни в резко выраженную двойственность между центром некого пучка душевных лучей и сферой, освещаемой ими. Отсюда уже ясно, что и теоретическая направленность, т.е. само внимание или предметное сознание, поскольку оно умышленно или, как обыкновенно говорится, «произвольно», есть тоже некое действие нашего «я», т.е. форма (основная и первичная) практической устремленности. Неумышленная направленность, предметное сознание как таковое поскольку представить себе его как чистое, бездейственное созерцание, правда, может и не сопровождаться самосознанием, т.е. выделением «ядра»: таково состояние, когда мы безвольно погружены в предмет, как бы утонули в нем, и внепредметное сознание только как бы по инерции, будто в полусне, продолжает свою стихийную жизнь в нас1. Но если вспомнить, какая значительная часть нашего предметного сознания определена нашим «интересом» — понимая под «интересом» не только «практические» интересы в узком смысле слова, но и интересы бескорыстные, т.е. всякие вообще «задачи» и «цели», которые мы себе ставим, — то мы должны будем признать, что фактически предметное сознание по общему правилу всегда сопровождается самосознанием, и что обе эти области сознания, ограничивающие с двух разных сторон стихийную душевную жизнь, пробуждаются и живут в человеке одновременно.
___
1 Классической страной такого бездейственного созерцания является, как известно, Индия; и характерно, что ориентированная на этом созерцании индусская философия склонна отрицать реальность нашего «я».
Присмотримся теперь к природе самосознания. Подобно предметному сознанию и сознанию как душевной жизни вообще, самосознание есть особый специфический вид сознания. Уловить этот уже более глубоко лежащий слой сознания, несколько труднее, и тут более всего грозит опасность поддаться растяжимым ходячим значениям слов и подменить подлинное самонаблюдение какими-нибудь предвзятыми теориями. Поэтому необходимо отделить истинный, опытно данный смысл этого понятия от естественных, но ложных его пониманий. Что касается, прежде всего, объекта этого самосознания, именно нашей «самости» или нашего «я», то могущественные побуждения влекут увидеть в нем особое, отделенное от всего остального, самодовлеющее высшее начало. Эти побуждения, составляя сами часть нашей, души, тем самым не могут быть признаны простоложными притязания на обладание высшим началом душевной жизни и вера в это обладание суть сами свидетельства какой-то возможности обладания им — иначе соответствующая идея не могла бы возникнуть в нас. То, что человек не хочет быть только природным существом, — справедливо говорит Вл. Соловьев, — уже свидетельствует, что он есть нечто большее. В своем месте мы учтем это важное свидетельство. Но не нужно сразу же отождествлять его с простым, повсеместным присутствием в нас той черты, в силу которой мы обладаем самосознанием; и протест «эмпирической психологии» против гипостазирования и обоготворения этой черты в известной мере вполне справедлив. Правда, эмпирическая психология обыкновенно впадает в противоположную крайность, просто отрицая такую особую инстанцию в сознаний и отождествляя самосознание с душевной жизнью. Внимательное и беспристрастное самонаблюдение, думается, совершенно явственно говорит нам, что истина — посередине. Наше «эмпирическое я» не есть совершенно исключительная, обособленная, высшая инстанция, но вместе с тем определенно отличается от душевной жизни вообще и занимает в ней особое место. Выразить его своеобразие довольно трудно; здесь можно опять лишь косвенными средствами побудить читателя самого вглядеться в это своеобразие и мысленно воспроизвести его перед собой. Это «я» не есть чистое, абсолютное единство, абстрактная, бессодержательная точка центра душевной жизни; оно сложно, изменчиво и имеет определенное содержание. Оно есть именно «ядро» душевной жизни, место, в котором общее душевной сознание как бы сгущается и тем самым просветляется — центральная часть пламени душевной жизни; и вместе с тем это центральное, наиболее светлое ядро имеет особое действенное значение: оно есть место, откуда ведется управление душевной жизни, где как бы хранится направляющая энергия сознания. Влечения и стремления присущи и душевной жизни; но хотения и желания всегда исходят из нашего «я» и в качестве «сознательных» волевых явлений явственно отделяются от слепых тяготений душевной жизни. Правда, мы и здесь должны остерегаться преувеличивать их значение. Мы уже видели, что «сознательность» наших волевых действий часто есть лишь почетная фикция, и что у грешного смертного «сознание» по большей части находится в плену у слепой душевной жизни. Но и фикция есть не ничто, а своеобразная реальность, и плененный вождь остается почетным, т.е. высшим, лицом. Как лицемерие есть, согласно известному изречению, дань, которую порок платит добродетели, так и видимость сознательности в душевной жизни есть все же форма (хотя и не глубокая, только внешняя), в которой обнаруживается подчиненность душевной жизни нашему «я».
К тому же явлению мы можем подойти и с другой стороны, рассматривая самосознание не со стороны его самости, а с той стороны, с которой оно есть сознание. Здесь в особенности нужно оберегаться от подстерегающей нас опасности смешения понятий. Самосознание не есть ни самопознание, ни познание своей душевной жизни, с которыми их так легко' смешать. Оба эти явления суть, подобно всякому познанию, виды предметного сознания: в них то наше «я», то наша душевная жизнь предстоит нам как предмет, на который направлено или обращено наше сознание. Нечто принципиально иное есть наше самосознание. Когда мы говорим в жизни о самосознании (терминологию научной литературы позволительно оставить здесь в стороне ввиду ее неустановившегося характера)? Мы говорим о появлении «самосознания» у ребенка, конечно, не тогда, когда он занят познаванием своей душевной жизни или своего «я» (ни один нормальный ребенок этим не занимается), а когда мы подметили само непосредственное присутствие в его сознании момента «я», например, когда он впервые начал вообще употреблять слово «я» или когда в нем так же непосредственно отделяется мир его личности, как особое единство, от предметного мира (конечно, без того, чтобы он в этом отдавал себе какой-либо разумный отчет). Нормальный взрослый человек в бодрствующем состоянии всегда обладает самосознанием; но мы говорим здесь о различной силе самосознания, отличая, например, человека, на всех действиях, чувствах, желаниях которого лежит яркий и сильный отпечаток его личности, как единства, от человека, подобного «зыблемой тростинке», взгляды, оценки и действия которого не выражают никакого устойчивого внутреннего единства, который безволен, легко переносит обиды и т.п. Итак, что касается, прежде всего, различия между самосознанием в этом смысле и познанием своей душевной жизни (тем, что обычно зовется «самоанализом»), то оно очевидно, и его легко выяснить на примерах; так, сильная личность, налагающая на все свои мысли и действия отпечаток своего «я», как бы окрашивающая всю свою жизнь в цвет своего «я», противопоставляющая всем внешним и внутренним явлениям своей жизни властное «я так хочу, я не могу иначе!», т.е. обладающая явно выраженным самосознанием, может быть совершенно не склонной к «самосозерцанию» и не обращать никакого внимания на свою внутреннюю душевную жизнь. И напротив, какая-нибудь истерическая женщина, всецело подвластная слепым капризам своей душевной жизни и почти не имеющая самосознания, как руководящей сознательной инстанции жизни, по большей части бывает большим знатоком своих ощущений, своих болезненных радостей и страданий и проводит свое время в постоянных наблюдениях над своей драгоценной особой. Что же касается самопознания, т.е. познания именно своей личности как руководящего центра своей душевной жизни, то оно принадлежит к редчайшим и высшим достижениям человеческого духа, доступным вообще только немногим. И даже поскольку под самопознанием мы будем разуметь не какое-либо действительное знание своего «я», а лишь саму познавательную направленность на это «я», оно есть довольно редкое и исключительное состояние нашего сознания. Мы указывали выше, насколько обычное сознание (и даже «научное») чуждо этой позиции познавательной обращенности на внутренний мир душевной жизни. Тем более редко обращение внимания на центр и руководящее единство этой жизни, которые мы называем нашим «я», нашей личностью. В другом месте выше мы отметили, что открытие этого внутреннего мира как особого единства — открытие своей личности или «души» — бывает по большей части как бы настоящим откровением, изумляющим самого субъекта познания раскрытием перед его взором какой-то новой реальности. Еще более, наконец, редко эта обращенность на себя самого приносит реальные познавательные плоды, так что человек не только знает, что у него вообще есть личность, но и действительно знает существо своей личности. И дельфийскому оракулу, конечно, не нужно было бы настойчиво взывать: «познай самого себя!», если бы самопознание было тождественно с повсеместно и почти всегда присущим человеку самосознанием.
Легко, напротив, видеть, что самосознание, как тип сознания, стоит ближе к сознанию как непосредственной душевной жизни, чем к предметному сознанию. В самосознании нет двойственности, между сознающим и сознаваемым, и наше «я» не противостоит нам; как предмет, на который мы направлены; напротив, сознание нашего «я» и есть не что иное, как его простое переживание. Мы сознаем наше «я», поскольку мы есмы «я», и в этом сходство самосознания с сознанием как душевной жизнью: то и другое суть непосредственная самопроникнутость или самоявственность простого бытия. Но самосознание, будучи такой самопроникнутостью центральной, сгущенной части душевной жизни, есть вместе с тем потенцированная, более яркая и тем самым качественно своеобразная самопроникнутость душевной жизни в целом: в лице ее душевная жизнь светит не присущим ей самой рассеянным, сумеречным светом, а как бы ярче, а потому и иначе, озарена одним центральным светом. И этот свет есть не только свет, но и сила и потому интегрированности сознания соответствует и интегрированность действенной жизни: душевная жизнь, озаренная этим центральным светом, из состояния бесформенной сплошности переходит в состояние дифференцированности и «подобранности», сознает в себе центральную власть и подчиненность этой власти периферических душевных явлений; в ней образуются — если говорить по аналогии с телом — центральное нервное ядро и нервные нити, которые дают этому ядру возможность реагировать на периферические явления и руководить ими.
II
Мы рассмотрели теперь три основных смысла понятия «сознание», которым соответствуют три вида или области «сознания» в широком смысле слова. Мы видим теперь, что, поскольку под сознанием разумеется предметное сознание или самосознание, мы были вправе отличать душевную жизнь от сознания, тогда как, напротив, поскольку под сознанием разумеется некоторая более широкая и менее специфическая область — сознание как непосредственная самопроникнутость или себе-данность — сознание — по крайней мере ближайшим образом, на основании сказанного доселе, — очевидно совпадает с душевной жизнью. Гораздо важнее и не так просто разрешимо другое недоумение, которое здесь естественно возникает и на которое мы должны ответить. Если жизнь нашего сознания слагается из трех указанных областей — из сознания, как непосредственного переживания, предметного сознания и самосознания, причем первое дано в чистом виде или целиком заполняет наше сознание только в весьма редких, исключительных состояниях, обычно же образует лишь задний фон или промежуточную среду для других видов сознания, то почему мы выбрали одну лишь эту область для характеристики душевной жизни и отождествили ее с последней? Конечно, терминология есть дело условное, на обсуждение которого не стоит тратить много слов. Но вряд ли могло бы быть оправдано столь существенное изменение ходячего значения слова «душевная жизнь», если бы это изменение не опиралось на определенное понимание существа дела.
Поскольку под «душевной жизнью» мы разумеем всю область бытия, остающуюся за вычетом материальных предметов и процессов, очевидно, конечно, что душевная жизнь должна охватывать все виды сознания. Но мы уже указали мимоходом выше, что душевная жизнь противостоит не только области телесного бытия, но и таким сферам, как математические содержания, нравственность, социальная жизнь и т.п. Не углубляясь здесь в смысл и сущность этих содержаний, назовем их, все совместно, областью «духа»; тогда мы вправе сказать, что не-материальное состоит из «духовного» и «душевного». Каково отношение между этими двумя областями, — этого мы не будем пока обсуждать подробно; здесь нам достаточно лишь заметить, что предметное сознание и самосознание суть отражения или проявления сферы «духовности» в области душевной жизни. В самом деле, предметное сознание в качестве познания (все равно, есть ли оно завершенное знание или только приближение к нему) возможно — как это показывает теория знания — лишь через связь нашего сознания с возвышающейся над нашим «я», единой для всех человеческих сознаний вневременной и идеальной, т.е. духовной, стороной бытия,1 а так как самосознание возможно лишь на почве предметного сознания, то то же применимо и к нему. Вот почему, входя также, в известном смысле, в состав душевной жизни, предметное сознание и самосознание суть не проявления, так сказать, чистой субстанции душевной жизни как таковой, а усложненные, производные явления, выражающие взаимодействие душевной жизни с областью, лежащей за ее пределами.
____
1 Подробнее об этом см. в нашей книге: «Предмет знания», в особенности гл. VII.
Иное оправдание нашего различения «душевной жизни» и «сознания» в широком смысле (объемлющем все три его вида) заключается в следующем. Душевная жизнь в принятом нами смысле есть как исходная точка, так и постоянный, неустранимый субстрат всех явлений сознания. Насколько мы можем иметь представление о жизни сознания у новорожденного ребенка, или у низших животных, которых мы считаем одушевленными, мы, конечно, вряд ли можем сомневаться, что такое сознание исчерпывается одной лишь «душевной жизнью» в описанном смысле. С другой стороны, эта же душевная жизнь есть общий фон, всеобъемлющая стихия, лишь на почве которой и в неразрывном единстве с которой возможны высшие формы сознания, — как самосознание, так и предметное сознание. То и другое суть вообще лишь высшие, усложненные виды душевной жизни, ибо и направленность на предмет, и самосознание суть как таковые тоже «переживания». Поэтому деление сознания на три вида — сознание как душевная жизнь, как предметное сознание и как самосознание — есть не деление на равноправные виды, из совокупности которых слагается жизнь сознания, напротив, первый вид есть вместе с тем потенциальная основа и постоянный субстрат двух остальных. Он относится к ним как корень или ствол дерева к его ветвям, листьям и плодам или — что, быть может, адекватнее выражает отношение и представляет не одну лишь внешнюю аналогию — как в общей нервной системе субкортикальные нервные центры относятся, с одной стороны, к вырастающим на их почве полушариям, головного мозга и, с другой стороны, к их продолжениям в лице сенсорных и моторных нервных путей. Душевная жизнь есть, коротко говоря, зародыш и субстрат всякого сознания вообще. Правда, в качестве такового она не могла бы быть просто тождественна одному из своих проявлений, а должна была бы в скрытом виде заключать в себе своеобразия всех возникающих из нее проявлений, если бы она была замкнутой субстанцией и из своей изолированной внутренней природы порождала все явления сознания. Но именно это не имеет места; стихия душевной жизни есть чистая потенция, в чистом виде проявляющаяся лишь в низшей, обрисованной нами форме душевной жизни как таковой, в высших же своих обнаружениях всецело опирающаяся на иную силу, как бы питающаяся хотя и не чуждыми ей, но все же и не ею самой созданными соками.
Но, может быть, мы вправе высказать еще более существенное и общее утверждение в вопросе об отношении между душевной жизнью и сознанием. Господствующий взгляд видит в «сознании» отличительный и существенный признак «душевной жизни». Как бы широко ни мыслилось при этом понятие «сознания» и как бы его первичная сущность ни была отличаема от его высших, производных форм — предметного сознания и самосознания, — этот взгляд страдает некоторой интеллектуализацией или спиритуализацией душевной жизни. Прежде всего необходимо отметить, что признак «сознания» не исчерпывает собой природы душевной жизни. Сознание, как самопроникнутость или самоявственность, есть принадлежность чего-то, некой реальности: мы не только сознаем себя, но и существуем, и сознаем себя именно как нечто сущее — хотя и не как предмет, противостоящий сознанию, но все же как реальность, не исчерпывающуюся этой своей сознанностью. В таких сторонах нашей душевной жизни, как чувства и стремления, эта реальная сторона душевной жизни выступает на первый план, тогда как идеальность («осознанность») ее есть лишь как бы побочный ее спутник. Можно было бы сказать, что эта реальная сторона есть сама субстанция душевной жизни, тогда как идеальная ее сторона есть атрибут этой субстанции. Что это за субстанция? В чем состоит само бытие душевной жизни ? Логически определить ту основную черту, которая — помимо сознания — — объединяет между собой чувства, настроения, ощущения, стремления, невозможно; можно только — да и то требует больших усилий абстрагирующего внимания — просто подметить, уловить ее. Это есть именно то, что мы называем переживанием или непосредственным бытием, поскольку оно не исчерпывается сознанием. Если сознание есть бытие-для-себя, то, кроме момента этого «для-себя», этой самоявственности, есть и момент самого бытия как его очевидное условие. И вот мы утверждаем, что этот момент непосредственного бытия есть более существенный и первичный признак душевной жизни, чем момент сознания. В той мере, в какой жить важнее и первее, чем сознавать, в какой действенность предшествует созерцанию, душевная жизнь есть прежде всего реальная сила и лишь производным образом идеальный носитель сознания. Конечно, в конкретном сознательном переживании обе стороны могут быть отделены только абстрактно, и всегда даны не только совместно, но и в теснейшем слиянии или единстве. Но в этом единстве первенство принадлежит именно моменту жизни как таковой. Это утверждение лишь высказывает в самой общей и основной форме то убеждение в первичности иррационального в человеческой жизни, которое есть, быть может, главное завоевание современного понимания человеческой жизни (в психологии и обществоведении), добытое в борьбе против рационализма и спиритуализма прежнего времени.
Мы могли бы формулировать этот вывод еще следующим образом. В качестве чистой жизни, бытия, силы, действенности, душевная жизнь есть актуальная, так сказать, готовая, относительно самоутвержденная реальность. В качестве же сознания она есть лишь потенция, возможность, как бы зародышевое состояние или сырой материал для реальности, которую она может приобрести лишь извне, через приобщение себя к актуальности духа. В самом деле, рассматриваемое только как сознание, описанное нами элементарное сознание — душевная жизнь — есть лишь как бы зародыш или ослабленная форма тех высших видов сознания, которые мы наметили в лице предметного сознания и самосознания; именно поэтому это первичное сознание так трудно подметить. Конечно, в качестве именно такой потенции она есть самостоятельная реальность, невыводимая из той актуальности, потенцией для которой она является — как тень есть нечто отличное от предмета, ее отбрасывающего, или как материал отличен от актуальной формы, которую он воспринимает в себя или в которую облекается. Но все же душевная жизнь как сознание есть лишь тень актуального сознания как «духа», или бесформенная потенция для него, тогда как в качестве жизни она есть актуальное начало, отличное от духа. Точнее говоря, именно то в сознании — душевной жизни, что придает ему характер лишь потенции некой высшей реальности и в силу чего оно, в качестве такой потенции, есть вместе с тем самостоятельная реальность, есть не сам момент сознания, не чистая мысль или созерцание, а именно сознание как жизнь; момент жизни или непосредственного бытия именно и есть реальный носитель сознания как особой потенции. Поэтому хотя сознание есть необходимый момент готового целостного сознательного переживания, оно есть вместе с тем момент в известном смысле побочный и производный по сравнению с тем истинно первичным моментом, в силу которого переживание есть подлинное переживание, то есть жизнь или бытие.
Эти несколько чрезмерно абстрактные и в этой форме не для всех убедительные соображения приобретают сразу если не бесспорность, то по крайней мере живое и конкретное значение настоящей проблемы, если мы свяжем их теперь с вопросом о так называемой «бессознательной» или «подсознательной» психической жизни. При всей спорности теорий, относящихся к этой области, сами факты здесь настолько поучительны, что никакое общее учение о сущности психического не может обойтись без углубления в этот особенно темный угол темной сферы душевной жизни.
III
Ничто не обнаруживает так явно неудовлетворительности учения о «душе» как о res cogitans простого отождествления «душевного» с сознательным или сознаваемым, как явления, известные под именем бессознательных или подсознательных. Мы имеем ряд явлений, теснейшим образом связанных с нашей душевной жизнью, играющих в ней значительную роль и имеющих все внешние признаки явлений душевных и в то же самое время, по непосредственному свидетельству самонаблюдения, не сознаваемых. Для господствующего понимания душевной жизни, однако, бессознательное душевное явление есть просто contradictio in adjecto, вопрос о котором решается также просто, как вопрос о деревянном железе и круглом квадрате. Положение, казалось бы, удобное, но оно не спасает: интуитивное чутье правды протестует против такого слишком легкого решения, и вопрос о «бессознательном» не сходит со сцены в психологии и даже все обостряется по мере расширения чисто опытных и практических ее завоеваний.
Укажем, прежде всего, на соответствующие факты, ограничиваясь лишь немногими, наиболее интересными. Прежде всего, мы имеем явления, относящиеся к области гак называемого спиритизма. При всей спорности более сложных и «чудесных» явлений такого рода, производимых обычно с помощью профессиональных «медиумов», в добросовестности которых всегда можно сомневаться, в обстановке, исключающей или затрудняющей точную проверку, мы имеем здесь и явления гораздо более простые и совершенно бесспорные. Эти элементарные явления во всяком случае безусловно удостоверены самыми компетентными, опытными и трезвыми исследователями, совпадают с данными экспериментальных исследований и могут быть опытно подтверждены всяким наблюдателем, в совершенно нормальной обстановке, почти с закономерностью, свойственной явлениям природы. Достаточно 4-5 заведомо добросовестным лицам в самом трезвом и скептическом настроении сесть вокруг небольшого стола, положив на него ладони, чтобы в 9 случаях из 10 (в особенности, когда в сеансе принимают участие женщины) минут через 5-10 стол начал «двигаться» и «отстукивать» то бессмысленные, то неожиданные для всех участников, а порой изумительно-проницательные слова и фразы. При соответственно иных условиях у весьма многих вполне «нормальных» людей обнаруживается способность к «автоматическому письму», при котором планшетка или просто карандаш в их руках «сами» пишут изумляющие их вещи. Ближайшее существо этих явлений так очевидно, что о нем не может быть спора: оно состоит в том, что руки участников сеансов с помощью столов, блюдцев, планшеток, карандашей, отстукивают, отмечают или просто пишут слова и фразы, которые для сознания участников являются совершенно неожиданными. Объяснение, которое навязывается здесь с почти принудительной силой, заключается в том, что за пределами нашего бодрствующего сознания в нас и наяву продолжает действовать не замечаемое нами душевное состояние, аналогичное сну, работа которого с помощью указанных приемов может быть легко обнаружена. Это объяснение фактически разделяют, кажется, все без исключения участники и наблюдатели спиритических сеансов, раз удостоверившиеся в реальности самих явлений — самые трезвые и скептические наряду с самыми восторженными и убежденными спиритами, которые уверены, что в этом «сне наяву» мы являемся лишь посредниками для мыслей и действий добрых или злых «духов». Не пускаясь здесь в разбор теорий спиритизма, запутанных и шарлатанством, и легковерием, и столь же легковерным сомнением, мы ограничиваемся здесь лишь констатированием того бесспорного факта, что едва ли не каждый из нас может при известных условиях диктовать или писать нечто, о чем он сам и не подозревает.
На совершенно аналогичные факты в совсем иной области душевной жизни обратила недавно внимание известная психотерапевтическая школа Фрейда, которая практически достаточно себя зарекомендовала, чтобы заставить считаться с собой. Обнаружилось, что многие душевные и нервные болезни — если не большинство из них — объяснимы тем, что некоторые тягостные и мучительные для нас представления, чувства, желания, которые именно в силу своей тягостности как бы изгнаны из пределов сознания и о которых сами пациенты даже и не подозревают, оказывают как бы подземное давление на сознание и тем нарушают его нормальное функционирование, и лечение, основанное на этом диагнозе, приводит часто к удивительно успешным результатам. Лечение это состоит в доведении до сознания пациента этого подземного содержания его душевной жизни; часто достаточно одного этого освещения сознанием, чтобы такой подсознательный элемент жизни потерял свою исключительную, болезненную остроту и силу.
К фактам обоих этих родов присоединяются далее общеизвестные в современной психиатрии явления каталептического состояния1 естественного или гипнотически вызванного сомнамбулизма, раздвоения и сужения личности при истерии — ряд фактов, имеющих ту общую черту, что в них обнаруживаются душевные состояния, мысли, действия и т.п., остающиеся не-сознанными для нормального сознания пациента, т.е. настолько отсутствующие из его памяти, как будто они совсем не сознавались им. Не останавливаясь далее на этих патологических явлениях, сопоставим их с самыми общеизвестными нормальными явлениями, обнаруживающими явное сходство с ними. Рассеянному человеку, в особенности человеку, углубленному в созерцание чего-либо или в упорное размышление, задается вопрос; он, по-видимому, его не слышит, потому что не реагирует на него; через некоторое время он разумно отвечает на него по собственной инициативе, как будто вопрос был только что ему поставлен. Что с ним произошло? Скажут: он слышал вопрос, но не «воспринял» или не понял его, т.е. он имел ощущения, не имея соответствующей «апперцепции», восприятия, воспроизведения смысла и т.п. Пусть так, но не будем успокаиваться на словесных решениях. Что значит невоспринятое, неапперципированное, неосознанное ощущение? Если это есть какое-либо состояние сознания, то сознание должно было как-либо сразу реагировать на него, например, человек должен был бы переспросить собеседника или ход его размышления должен был как-либо нарушиться; если же никакого изменения сознания вообще не произошло, то как человек был в состоянии потом понять смысл вопроса и ответить на него? Еще один пример из тысячи других возможных. Известно, что многие люди способны, ложась спать, внушить себе проснуться в определенный час, и это внушение часто выполняется ими с точностью образцового будильника. В какой форме эта мысль жила в них во все время сна, когда они или вообще ничего не сознавали, или были погружены в сновидения, далеко унесшие их мысль от этого требования и всех соображений, которыми оно было мотивировано? Должны ли мы удивляться после этого лишь с виду более замечательным явлениям внушения со стороны, когда разумный, трезвый человек вдруг с точностью в назначенный час и в заранее строго предопределенной форме выполняет бессмысленное, внушенное ему действие? Не знаем ли мы, наконец, из свидетельства едва ли не большинства выдающихся мыслителей и художников, что научные решения или художественные осуществления, не дававшиеся никаким их сознательным размышлениям и усилиям, являлись им неожиданно, в готовом виде, при самых, казалось бы, несоответствующих условиях их сознательной жизни? Не сказал ли компетентнейший в этом отношении авторитет, Гете, что все вообще великие осуществления, все истинно глубокие и плодотворные мысли приходят в голову без размышления, как свободные божьи дети, которые появляются перед нами и говорят: вот мы?
___
1 Что и явления каталептического состояния не могут быть объяснены, как чисто рефлекторные, — это убедительно показывает Пьер Жане («Психический автоматизм», русск. пер. 1913, с. 20 и сл.).
IV
Все эти факты и тысячи других, им подобных, общеизвестны. Но для объяснения их прямолинейным противникам понятия «бессознательной» или «подсознательной» душевной жизни приходится прибегать лишь к допущению гипотетических физиологических процессов, не сопровождающихся никакими душевными явлениями, т.е. процессов чисто автоматических или механических, последний итог которых предстает в нашем сознании уже как душевное явление. Это допущение, конечно, находится в выгодном положении, потому что по самому своему существу не допускает прямой опытной проверки. При этом не помогает и косвенное доказательство через излюбленную аналогию с деятельностью низших центров органической жизни (например, пищеварения или кровообращения), заведомо действующих, не сопровождаясь душевными явлениями. Во-первых, сама аналогия плоха, ибо здесь мы имеем дело именно с иной, низшей областью, никогда не дающей тех итогов — появления в сознании богатых и сложных духовных содержаний — которые, согласно допущению, должна давать чисто физиологическая деятельность высших центров; во-вторых, действительное отсутствие в этой низшей области соответственно низших форм бессознательной душевной жизни тоже есть лишь предположение, и аналогия между этими двумя областями могла бы вести и к прямо противоположному допущению. Не останавливаясь здесь на вопросе об условиях распознания непосредственны не данной душевной жизни, отметим те косвенные соображения, которые говорят против этого легкого объяснения бессознательного как чисто физического.
Прежде всего, оно должно опираться на маловероятное допущение, что одни и те же нервные центры должны действовать, то сопровождаясь, то не сопровождаясь душевными явлениями, без возможности объяснить, почему и как возможно такое принципиальное различие, — или же на другое, тоже маловероятное допущение, что один и тот же итог в сознательной душевной жизни может быть в одних случаях результатом процессов душевной же жизни или соответственных физических процессов, в других же — последствием деятельности совсем иных физиологических центров, несопутствуемых душевными явлениями. Впрочем, здесь мы находимся в области столь произвольных догадок, что и опровержение их не может быть вполне убедительным. Если что заслуживает названия метафизики в дурном смысле неопровержимых и недоказуемых рассуждений, то именно такого рода излюбленные физиологические псевдообъяснения трудно объяснимых явлений душевной жизни.
Обратимся к более доступной психологической стороне вопроса. Клинические наблюдения и эксперименты над истеричными с неопровержимой убедительностью показывают наличность явлений бессознательных, не объяснимых иначе, чем психологически. Таковы, например, внушенные частичные или так называемые «систематизированные» анестезии и в особенности явления, часто называемые парадоксальным именем «отрицательных галлюцинаций». Испытуемому внушают не видеть известных предметов, лиц, цветов и т.п., и он их, действительно «не видит». При этом опыт может быть поставлен так, что для такого «невидения» оказывается совершенно необходимым довольно сложное психическое усвоение соотвествующего содержания. Пьер Жане внушал своей пациентке не видеть листков бумаги, на которых поставлен крестик или даже написано «число, кратное трем». Пациентка выполняла внушения, была «слепа» для листков с крестиком или для листков с цифрами 6,9,12,15. Решающими, однако, оказываются не эти факты сами по себе, как они ни замечательны, а то обстоятельство, что в это же самое время пациентка с помощью автоматического письма сообщает самые точные сведения о невидимых ею предметах и — что еще важнее — позднее при известных условиях точно их вспоминает.1 Никто еще никогда не сомневался, что вспоминать можно лишь действительно пережитое, что не может быть воспроизведенных образов там, где не было соответствующих ощущений. С полной убедительностью Пьер Жане показывает, что существо всякой истерической анестезии сводится не к действительному отсутствию ощущений, а к такого рода «психической слепоте». При этом уясняется полная аналогия между такой анестезией и обычной рассеянностью, — первая оказывается лишь крайним, предельным случаем последней.
___
1 Жане Пьер. Психический автоматизм, русск. пер., с. 256 и сл.
Эти краткие выводы из подавляющих числом и убедительностью опытов должны быть сопоставлены с рядом общих соображений. Все, что мы знаем, говорит о непрерывности душевного развития. Не может быть сомнения, что уже новорожденный ребенок имеет душевную жизнь, а, быть может, и ребенок в утробной своей жизни. Но когда мы пытаемся воссоздать состояние сознания, которое должно быть составлено из чистых ощущений без всякой памяти и самосознания, это оказывается невозможным, и такое состояние равносильно бессознательности. Точно также единство органической жизни безусловно говорит за непрерывность душевного развития на разных ступенях лестницы животного царства. Где первая ступень этой лестницы? Мы этого не знаем; но мы должны были бы опрокинуть все наши представления о мире, впасть в совершенно софистические, серьезно никем не разделяемые парадоксы, вроде декартова учения о животных как бездушных машинах, если бы мы захотели упрямо утверждать, что эта ступень не ниже простейших, известных нам по внутреннему наблюдению, форм человеческого сознания.
Наконец, то, что мы называем сознанием, фактически немыслимо вне памяти, вне связи настоящего с прошлым. Но как, в таком случае, оно могло бы вообще когда —либо возникнуть, начаться, если ему не предшествовало бы состояние, которое, не будучи сознанием в обычном смысле, есть душевное состояние, из которого может возникнуть сознание?
Все это — скажут нам — лишь более или менее правдоподобные соображения, которые не исключают возможности и противоположного. Но прежде всего, конечно, есть такая степень правдоподобия, которая — не с точки зрения возможностей отвлеченного спора, а сточки зрения внутренней уверенности — практически стоит на границе полной достоверности, и именно эту степень мы имеем здесь. Нам ответят, однако, что философия требует от нас полной достоверности — или логической, или опытной. Пусть так; у нас есть и чисто опытные данные в строжайшем смысле этого слова о состояниях, по крайней мере, приближающихся к «бессознательным» душевным явлениям и граничащих с ними. Оставим в стороне все итоги объективных наблюдений, экспериментов и общих соображений. Сосредоточимся на данных чистого самонаблюдения.
V
Чем дальше идет развитие психологического наблюдения, чем более утончается самонаблюдение, тем очевиднее становится глубокая мысль Лейбница о ступенях или степенях сознания, о непрерывности перехода в нем от минимума к максимуму ясности и интенсивности. Было время, когда казалось, что сознание доступно нам только в форме самосознания или предметного сознания, когда считалось логически противоречивым утверждать, что мы можем иметь что-либо в сознании, чего мы не замечаем или в чем не отдаем себе отчета (вспомним основанные на этом допущении возражения Локка против «врожденных идей»). И отголоски такого мнения можно встретить в психологии вплоть до нашего времени. Уже само намеченное нами выше различение сознания-переживания от мысли и созерцания, от предметного сознания и самосознания есть, по существу, завоевание психологической интуиции Лейбница и идущего по ее стопам новейшего утончения самонаблюдения. Но это сознание-переживание всегда ли само однородно по своей силе или ясности, как сознание! Приведенные выше примеры полудремоты или аффекта суть ли низшие, доступные нам формы сознания? Еще более тонкое и обостренное наблюдение показывает, напротив, что сознание-переживание само может иметь различные степени. Психологам удавалось — в прямом ли или в ретроспективном наблюдении — подметить состояния сознания, гораздо низшие, чем приведенные выше примеры чистых «переживаний». Что испытываем мы в первые дни и месяцы нашего земного существования? Что мы сознаем в момент первого, едва начинающегося пробуждения от глубокого сна или — еще лучше — обморока? Или что сознаем мы в момент, непосредственно предшествующий потере сознания при наступлении обморока или полной анестезии? Описать это, конечно, почти невозможно за отсутствием соответствующих слов, но дело тут не в описании, а в простом констатировании. Толстой — и мы можем поверить ему, ибо гений обладает исключительной памятью — вспоминает о смутном состоянии неловкости, несвободы и невыразимого протеста, которое заполняло его сознание, когда его пеленали. А Герцен-сын описывает состояние своего пробуждения от обморока; пишущий эти строки по собственному опыту знает об этом незабываемом состоянии, когда выплываешь из непостижимой тьмы небытия, и сознание исчерпывается смутным однородным еле ощущаемым шумом в ушах. Сомнений здесь быть не может: сознание, взятое даже как непосредственное переживание, за устранением всего предметного сознания и самосознания, по свидетельству опыта допускает еще переходы по силе и может быть прослежено до некоторого своего почти исчезающего минимума1.
___
1 Отрицание возможности степеней сознания у Шармана («Philosophie des Unberwussten», т. 2, гл. III, 4) основано на смешении сознания с предметным сознанием, в конечном счете — со знанием. Поэтому нет надобности на нем останавливаться.
Но тут мы стоим перед основным возражением, рассмотрение которого вместе с тем подведет нас к окончательному решению вопроса. Даже минимум сознания — скажут нам — не есть полная бессознательность и потому ничего не говорит о последней; количественные различия в степени или силе сознания принципиально отличаются от качественного различия между присутствием и отсутствием сознания. Явление же отсутствия сознания никогда не может быть опытно констатировано, ибо, чтобы иметь опыт, надо иметь сознание.
Как ни убедительно, на первый взгляд, это возражение, оно несостоятельно уже потому, что доказывает слишком много. Ведь опытно констатировать — это все равно, что опытно знать, т.е. иметь отчетливое представление о предмете или, точнее, иметь содержание, как предмет очевидного суждения. Как же мы можем, в таком случае, опытно констатировать состояния сознания, неизмеримо низшие и слабейшие, чем состояние отчетливого познавания, — состояния, в которых у нас нет ни объектов, противостоящих нам, ни суждений о них? Недоумение, очевидно, решается тем, что непосредственный опыт здесь основан на так называемом первичном воспоминании, т.е. на сохранении и присутствии предыдущего, низшего состояния сознания в составе последующего, высшего. Но если так, то усматриваемое в опыте состояние сознания никогда не есть простое определенное качество, как бы говорящее только о самом себе, а есть всегда некоторое сложное целое, в составе которого присутствуют и простейшие, менее интенсивные и ясные, чем само целое, элементы. Или, иначе говоря, в содержании такого самонаблюдения нам дана не одна определенная ступень сознания, а самодвижение перехода с одной ступени на другую как живое целостное единство, как некий отрезок динамического целого, по которому мы имеем непосредственное знание о самом целом как таковом.
Вышеприведенное возражение основывалось на противопоставлении чисто количественного различия в душевной жизни различию качественному. Но, с одной стороны, теперь уже стало почти трюизмом в психологии, что душевная жизнь не ведает количественных различий, а что все ее различия — чисто качественные, что, следовательно, немыслимы два качественно тождественные душевные явления. С другой стороны, это само по себе вполне верное указание часто повторяется без понимания его истинного смысла и всех вытекающих из него последствий. Не отдают себе отчета в том, как при этом условии в психологии возможны обобщения, а не одни лишь строго-единичные суждения, — более того, как в ней возможны суждения вообще, хотя бы единичные, раз в составе всякого суждения входят общие понятия? Очевидно, это указание должно дополняться и умеряться уяснением относительной однородности и сродства самих качественных различий в состав душевной жизни, или — что то же самое — признанием особого смысла понятия качества в применении к душевной жизни, в силу которого в ней не существует тех резких непроходимых разграничений, которые даны в логических различиях между предметными содержаниями, а есть постоянная непрерывность в переходе от одного к другому, качественная близость всего бесконечного ее многообразия. Лишь два-три примера из бесчисленного множества возможных. «Круглый квадрат» как геометрическое содержание есть бессмыслица, но в непосредственных конкретных образах вполне возможен непрерывный переход от образа квадрата к образу круга через постепенное закругление сторон квадрата истушевывание заостренности его углов (или в обратном направлении), возможно, следовательно, и уловление чего-то промежуточного между тем и другим, пример чего в изобилии дает художественная орнаментика, в особенности при вычурности ее стиля. Точно так же звук как предметное содержание лежит в совсем иной качественно области бытия, чем цвет, и логический переход от одного к другому невозможен. Но известный факт «цветового слуха», который есть нечто большее, чем непонятная ассоциация между разнородными содержаниями, свидетельствует, что в душевной жизни на известном ее слое возможно переживание качественной однородности этих столь разнородных ощущений. О том же свидетельствуют странные отождествления в кошмарном сне, когда мы считаем вполне естественным и очевидным, что одно лицо, оставаясь самим собой, есть вместе с тем совсем другое лицо, а иногда и какое-нибудь чудовищное животное, или что, задыхаясь в дыму пожара, мы одновременно тонем в море и т.п. И вся влиятельность и убедительность художественных образов основана на этой однородности в душевном переживании качественно разнородного. Из этого для нашего вопроса следует одно: само противопоставление количественных отличий между светлыми и темными, сильными и слабыми состояниями сознания, с одной стороны, и качественного отличия между сознательными и бессознательными душевными явлениями — с другой стороны, в корне ложно. Как отличие первого рода не тождественно с качественной однородностью, так и отличие второго рода не есть абсолютная, непроходимая качественная разнородность. Сторонники и противники идеи «бессознательного» обыкновенно одинаково не правы, последние — отрицая возможность уловления чего-то качественно столь отличного от обычного состояния душевной жизни, первые — подчеркивая абсолютность самого этого различия. Поэтому прежде всего вместе со многими современными авторами мы предпочитаем говорить о «подсознательном» вместо «бессознательного», чтобы отметить относительность самого различия, неадекватность его характеристики через чистое или логическое отрицание. Бессознательное — или, как мы отныне будем говорить, — подсознательное есть для нас лишь бесконечно мало сознаваемое, предел ослабления сознания-переживания, причем вместе с тем необходимо помнить об общем законе душевной жизни, по которому количественное различие есть вместе с тем и качественное, следовательно, признать, что такое понимание подсознательного ничуть не мешает нам говорить о нем как об особом, своеобразном типе душевных явлений. Мы, конечно, не можем уловить непосредственным опытом подсознательное в его чистой, изолированной от иных состояний форме, но умение пристально, чутко вживаться в пограничные состояния ослабления сознания дает нам возможность конкретно наметить путь к этой области, как бы предвидеть конец клубка, который мы распутали почти до конца, или первый исток реки, до высших верховий которой мы уже дошли, так что в конце доступного горизонта мы почти видим или видим в туманных очертаниях ее первое зарождение. Подсознательное познается тем своеобразным темным знанием, logismoz noqoz , которое предугадывал уже гений Платона.
Большинство защитников понятия «подсознательного» обосновывают его косвенно, ссылкой на факт действий живых существ, не объяснимых иначе, как в виде результатов более или менее сложных умственных процессов, и вместе с тем не сознаваемых самими деятелями. Эти указания, при всей их практической, жизненной убедительности, как мы видели, не разрушают философских сомнений, ибо оставляют по крайней меремыслимым объяснение таких фактов чисто физиологическими процессами. «Никто еще никогда не показал, — говорит Спиноза, — пределы того, на что способно наше тело». Отчего не допустить, что тело — головной или даже спинной мозг — может само «рассуждать», «вычислять» и т.п., т.е. функционирует так, что результаты его деятельности тождественны итогам, в других случаях обусловленным сложными умственными процессами? И если «душа» есть сознание, то, по-видимому, вообще не остается места для другого допущения. Для противодействия этим сомнениям мы пытались, в согласии с нашим общим методом, подойти к явлениям подсознательным с иной, внутренней их стороны. Мы судим о них или утверждаем их наличность не на основании умозаключений от их предполагаемых следствий, а на основании наблюдения их собственного существа. В чем состоит это существо? В подсознательных душевных явлениях, с нашей точки зрения, дано чистое переживание как таковое, т.е. сама сущность душевной жизни, изолированная от высших форм бытия или от высших своих проявлений.
VI
Но тут мы наталкиваемся, кажется, на новую трудность, или, вернее, старая и единственная трудность понятия подсознательного опять выступает перед нами. Переживание мы определили выше как тип сознания; мы пытались его охарактеризовать, как самоявственность, непосредственное бытие для себя и т.п. Не есть ли подсознательное нечто прямо противоположное этому — как бы «скрытость от себя», «бытие-не-для-себя»? Мы не будем здесь ссылаться на только что приведенное разъяснение подсознательного как бесконечно малого в жизни сознания, ибо это разъяснение в известном смысле еще остается на поверхности. Воспользуемся, напротив, приведенным сомнением для более глубокого проникновения в существо вопроса.
Что значит сознание-переживание, «бытие-для-себя» в отличие от содержания предметно-сознаваемого? Это есть, так сказать, само непосредственное, как бы самодовлеющее внутреннее бытие, как оно первичным образом дано себе или изживает само себя. Тщетно искать каких-либо логических признаков этого элементарного, первичного бытия: о нем можно только сказать, что оно есть бытие, и притом не предметное, не предстоящее чужому взору или вообще чьему-либо созерцанию, а как бы сущее в себе. Термины субъект и объект в их обычном смысле, как мы знаем, не имеют силы в отношении сознания-переживания: сказать, что в нем сознающий совпадает с сознаваемым, значит, строго говоря, сказать, что в нем нет нисознающего, ни сознаваемого, а есть лишь непосредственное бытие самого сознания как нераздельного первичного единства. Но это, собственно, все равно, что сказать, что здесь нет и сознания в обычном смысле слова. Но разве мы не условились считать переживание особым типом сознания, отличным от самосознания и предметного сознания, т.е. от форм сознания, характеризуемых присутствием субъекта и объекта, сознающего и сознаваемого? И разве опыт, вне всяких теорий, не говорит нам, что в таких состояниях, как приведенные примеры полудремоты или эмоциональной исступленности, присутствует какое-то сознание? Оба сомнения разрешаются сразу: и теоретическое понятие переживания, как типа сознания, и приведенные образцы были лишь приближениями к чистому понятию переживания. Легко составить предварительное отрицательное понятие сознания, отличного от предметного сознания и самосознания; но надо еще интуитивно осуществить для себя это понятие, и в самом этом предварительном определении этого еще не сделано. Точно так же, руководясь уже приведенными примерами еще более низких и элементарных форм душевной жизни, легко усмотреть, что в пропедевтически указанных образцах сознания-переживания мы не имеем чистых примеров переживания как такового. Напротив, в этих состояниях мы имеем переживания, еще сопутствуемые ослабленными, как бы сумеречными лучами предметного сознания и самосознания, как в этом легко убедиться из самонаблюдения. Слова о самозабвении, о потере представлений внешнего мира в полудремоте или в состоянии сильнейшего аффекта, конечно, должны пониматься cum grano salis: мы не забываем себя и мир, а почти теряем их из виду или имеем их в каком-то тумане. Это «почти», этот «туман» суть все же следы некоторых высших форм сознания; и эти следы могут все более и более изглаживаться. Допустим теперь, что они совсем изгладились. Что вообще осталось? Ничто? Нет, осталось все же само переживание, само внутреннее бытие субъекта. И это есть то, что мы зовем подсознательной жизнью. Момент «бытия для себя», характеризующий переживание, отнюдь не должен необходимо означать сознанности, хотя бы слабой. Он значит здесь лишь непосредственность, как бы внутренняя самопроникнутость бытия, в чем и состоит сущность переживания. Количественное уменьшение или ослабление того момента, который мы зовем сознанием, приводит к существенному качественному изменению самого существа душевного явления.
Эти абстрактные соображения полезно опять оживить ссылкой на конкретный душевный опыт. Исходной точкой для этого мы берем страх смерти как уничтожения нашего «я». Чего, собственно, мы боимся, когда содрогаемся перед мыслью о гибели нашего «я»? Что нам так дорого в нем? Привычные ли наши представления и чувства — все то, что образует эмпирическое содержание нашего бытия — или само бытие нашего «я» как «гносеологического субъекта», как «мыслящей субстанции» и т.п.? Простой умственный эксперимент показывает, что, по крайней мере, основу этого страха не образует ни то, ни другое опасение. Нас уже успокоит обещание бессмертия, даже если после смерти наступит совершенное, радикальное изменение содержания нашей душевной жизни, всех наших представлений, чувств и настроений; нас успокоит существенно даже обещание, что мы — мы сами, наше «я» — будем жить хотя бы в форме душевной жизни былинки, если только это будет действительное сохранение внутреннего бытия и притом нашего. Все-таки мы не перестанем существовать. Значит, дело — в сохранении нашего сознания? Но что это значит — «наше сознание»? Центр тяжести сознания лежит здесь, очевидно, на слове «наше», а совсем не на слове «сознание». Сохранение нашего существа в сознании потомства или даже во всеобъемлющем и вечном сознании Бога еще не есть наше личное бессмертие, а если вообразить, что все содержание нашего сознания, все наши чувства, желания, представления, наш характер после нашей смерти перейдут в другое существо, станут достоянием другого «я», то это не только нас не успокоит, но еще более устрашит, ибо мало того, что наше-то собственное «я» при этом все же погибнет, оно будет лишено своей высшей ценности — значения чего-то единственного и неповторимого. Важнее всего на свете для нас не данное содержание нашего сознания и не сама сознательность как таковая, и не единство того и другого, а бытие — какое бы то ни было — самого вот этого неповторимого носителя сознания, того, что мы называем «я» и что по самому существу для каждого из нас есть в единственном числе, как неповторимый и ни с чем не сравнимый центр всего остального. Этот носитель или субъект не есть ни то или иное содержание сознания, ни голая форма «сознания вообще». Но что же такое есть этот носитель или субъект сознания? Позднее мы ознакомимся с более глубокими формами и значениями его для нас, мысль о которых соучаствует или может соучаствовать в этом стремлении к сохранению «я». Но в общей форме то «я», которое пред стоит всем людям без различия глубины и ценности их самосознания и мысль об уничтожении которого повергает нас в головокружительный ужас, — это «я» не отличается никакими особыми достоинствами и не имеет никакого конкретного содержания. Этот бесформенный и бессодержательный «носитель» сознания есть для нас лишь живая, реальная точка бытия, которая от всего на свете отличается тем, что это есть точка, в которой бытие есть непосредственно для себя и именно в силу того действительно есть безусловно. Все остальное есть или содержание сознания, или его форма, и в том и другом случае есть лишь относительно, для другого или у другого. То, что мы зовем самим нашим «я», есть, напротив, живое внутреннее бытие, как последняя опорная точка для всего, в нем или для него сущего.
Мы видим: эта последняя опорная точка не есть ни само сознание — ибо она есть лишь данный конкретный его носитель, — и вместе с тем не есть ни мертвое, материальное или вообще объективное бытие — бытие для другого, — ни абсолютное ничто. Она есть то, что делает идеальный свет сознания живой, конкретой реальностъю. Реальность же сознания есть его бытие как переживания, как внутреннего бытия-для-себя, все равно, сознано ли само это переживание или нет. Когда мы в обыденной речи говорим о нашей «душе», мы имеем в виду именно эту реальность — это внутреннее бытие субъекта, хотя обычно и неразрывно слитое с тем специфическим началом идеального света, которое мы зовем сознанием, но не тождественное с ним. Отождествление души или душевной жизни с сознанием или основано на смутном, нерасчлененном понятии сознания, когда в нем идеальный момент сознательности как таковой не отделен от момента конкретного реального носителя этого чистого безличного света, или же необходимо ведет, додуманное до конца, к самому примитивному пантеизму, для которого существует лишь одно всеобъемлющее безличное сознание, на пути к чему и стоит современная гносеология, поскольку субъект сознания тожествен для нее самой форме «сознания вообще». Напротив, непосредственное усмотрение душевной жизни как конкретной реальности ведет к признанию, что душевная жизнь как таковая не тождественна сознанию. Рассмотренные явления «подсознательной» душевной жизни важны для нас прежде всего как показатели внесознательности душевной жизни. И центр спора между сторонниками и противниками «бессознательного» или «подсознательного» лежит не в вопросе, возможна ли душевная жизнь при полном отсутствии сознания — этот вопрос мы выше решили уяснением неправильности самой его постановки, признанием самой относительности различия между абсолютными и относительными, качественными и количественными различиями в душевной жизни — а лишь в вопросе, тождественна ли душевная жизнь сознанию и исчерпывается ли она им одним, или же, будучи носителем сознания, она как таковая отлична от него. Ответ на этот вопрос теперь для нас не может быть сомнительным: существо душевной жизни лежит в переживании как таковом в непосредственном внутреннем бытии, а не в сопутствующем ему сознании. Что осталось еще неясным здесь, уяснится нам в дальнейшей связи.
VII
В заключение отметим чисто практическое, конкретное значение намеченного понимания душевной жизни. Как бы кто ни относился к самому понятию подсознательного, к общему учению о внесознательности душевной жизни и отвлеченному его обоснованию, одно совершенно бесспорно: между степенью сознательности душевного переживания и его силой или интенсивностью как действенной реальности нет никакой прямой пропорциональности. Наиболее сознательные или сознанные наши душевные состояния отнюдь не суть наиболее сильные или влиятельные в нашей жизни; и степень общей сознательности личности тоже отнюдь не пропорциональна интенсивности и действенности ее душевной жизни. Правда, в известном смысле преобладание подсознательных или полусознательных состояний есть показатель «психической слабости», о которой справедливо говорят, например, в применении к истерическим, легко внушаемым, склонным к сомнамбулизму и т.п. субъектам. Но то, что здесь разумеется под «психической слабостью», есть, собственно, слабость духовная, слабость личности как управляющего и сдерживающего волевого центра и тем самым слабость формирующих, целестремительных сил душевной жизни. Напротив, интенсивность самой душевной жизни, как таковой, обычно пропорциональна ее разнузданности: достаточно указать на бурность ее проявлений, на склонность таких субъектов к страстным аффектам, на явления исступленности, одержимости и т.п. Легкость, с которой воля опытного психиатра управляет душевной жизнью таких субъектов, обусловлена не слабостью самих их переживаний, а лишь их слепою подвижностью, т.е. силой, которую может приобретать в их составе каждое отдельное содержание, в том числе и внушенное врачом. Как бы то ни было, но по меньшей мере сравнение разных переживаний в составе каждой отдельной личности никогда не подтверждает соответствия между сознательностью и силой переживания. Скорее наоборот, есть много данных, говорящих в пользу наличности здесь — при прочих равных условиях — пропорциональности обратной. Так, упомянутый выше метод лечения школы Фрейда заключается в ослаблении тягостного переживания путем его отчетливого осознания, и на практике этот прием употреблялся психиатрами, педагогами и просто в дружеских утешениях, конечно, задолго до учения Фрейда. Популярнейшее психологическое наблюдение говорит, что «самоанализ убивает чувство»; самые сильные и упорные наши страсти противодействуют освещению себя сознанием, как бы инстинктивно защищаясь от грозящего им при этом ослабления или разрушения; отсюда стыдливость и лучших, и худших, но всегда самых глубоких и сильных наших побуждений. В жизни хорошими психологами в отношении себя самих бывают обыкновенно разочарованные и скучающие скептики, люди типа Онегина и Печорина; «вся тварь разумная скучает», говорит Мефистофель у Пушкина. Гений того же Пушкина уронил другую, смелую и тонкую мысль. «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой», — сказал мудрейший из наших поэтов. Очевидно, «ум», ясность познания, обычно препятствуют живости и полноте поэтического творчества. Все такого рода утверждения, конечно, не имеют значения точных общих суждений, а лишь подмечают преобладающие типичные соотношения. Но с этой оговоркой мысль Пушкина, очевидно, может быть распространена и на любовь, на душевных двигателей нравственной и политической жизни, на религиозное чувство и т.п.
Если продолжить до конца, мыслить в предельных формах психологическое соотношение, выраженное в этих общеизвестных фактах, то надо будет прийти к заключению, что сознание и жизнь, будучи конкретно связаны между собой, по своему существу антагонистичны: чистое сознание, в качестве совершенного созерцания, есть бездействие, душевная смерть; чистая жизнь как могущественная, всепобеждающая действенная сила, есть совершенная слепота сознания. Правда, в высших областях нашей жизни, в той сфере, которую мы будем рассматривать позднее под именем духовной жизни, возможно и обратное соотношение, своеобразная гармония между этими двумя сторонами: для примера укажем здесь лишь на область религиозной жизни, где помимо слепого чувства и рассудочного отрицания возможна еще иная, высшая форма, в которой самый жар религиозной страсти питает яркость религиозного созерцания, и пламя жизни одновременно и светит, и греет. Но это касается, во-первых, лишь высших видов страсти, тогда как низшие «земные» страсти при этом необходимо замирают или ослабевают; и, во-вторых, это свидетельствует не против самой намеченной антагонистичности, а лишь против возможных преувеличений ее значения (вроде известных метафизических преувеличений Гартмана); но возможность примирения этого антагонизма в высшем единстве, достигаемом лишь с трудом и при исключительных условиях, есть сама скорее косвенный показатель антагонистичности этих начал в их господствующем, преобладающем состоянии.
Но если так, то здесь мы имеем самое конкретное и живое свидетельство противоположности или, по крайней мере, несовпадения между душевной жизнью и сознанием. Душевная жизнь в качестве жизни, со стороны своей импульсивности и интенсивности, т.е. в качестве конкретной и действенной реальности, есть нечто отнюдь не тождественное сознанию, и сознание совсем не есть ее существенный отличительный признак. Скорее мы имеем в лице того и другого два разных начала, как бы материю и форму внутреннего существа человека, которые хотя в конкретном бытии человека всегда связаны или соприкасаются, но для анализа являются разными и разнородными началами. Лишь эта материя внутреннего бытия человека есть то, что может быть названо в строгом смысле психическим в нем; она есть как бы особое начало «душевности», в отличие от присоединяющегося к нему иного, высшего начала Логоса или духа (nouz), выражение которого мы имеем в лице так называемого сознания, взятого как таковое. Соотношение между этими двумя началами может быть подробнее намечено лишь позднее; здесь нам нужно было только выделить и приблизительно зафиксировать саму область психического. Итак, область психического как такового есть область переживания, непосредственного субъективного бытия. И поскольку явления сознания имеют сторону, в силу которой они суть переживания в указанном смысле этого понятия, постольку они суть явления душевной жизни. Этот вывод может показаться, на первый взгляд, столь самоочевидным и банальным, что, по-видимому, не было надобности в сложных соображениях, которыми мы пытались его обосновать. Но если эти соображения были убедительны, то из них явствует, что содержание, скрытое под этим простым и привычным обозначением, далеко не общеизвестно и обыкновенно остается вообще незамечаемым. В лице душевной жизни мы имеем, как мы видим, совершенно особый мир, — вернее, особую стихию, отличную от всего объективного, предметного бытия и противостоящую ему, — и вместе с тем не идеальное начало чистого сознания, света разума, а вполне реальную и могущественную силу и сферу бытия. Будучи связана и с предметным бытием, и с моментом сознания, она является нам конкретно лишь как придаток, с одной стороны, предметного мира и, с другой стороны, разумного предметного сознания, оставаясь, однако, сама в себе особым и совершенно самобытным миром.
Для дальнейшего уяснения душевной жизни нам нужно теперь определить ее основные характерные черты, а затем наметить ее состав.