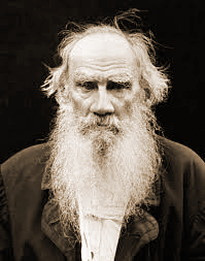«Лев Толстой: Бегство из рая»
Глава четвертая:
ГОЛОВА В ЧЕПЦЕ
В Оптиной Толстой пробыл, на первый взгляд, недолго — всего до 3 часов дня субботы 29 октября. Но это если не считать вечер предыдущего дня и ночь, проведенную в гостинице с 28-го на 29-е. Не забудем также, что у Толстого были свои счеты со временем.
Толстой проснулся рано, в 7 часов утра. Таким образом, активного времени, проведенного в монастыре, было 8 часов — полноценный рабочий день. За это время он постарался помочь просительнице, крестьянской вдове Дарье Окаемовой с ее детьми, вручив ей письмо с просьбой о помощи к семье своего сына Сергея Львовича, продиктовал приехавшему к нему молодому секретарю Черткова Алексею Сергеенко статью о смертных казнях «Действительное средство», последнюю в своей жизни, написанную по просьбе Корнея Чуковского, и два раза попытался встретиться со старцами Оптиной пустыни.
Хотя не совсем понятно, почему в этом случае обычно говорят о «старцах». Речь шла всё-таки об одном старце — Иосифе, ученике преподобного Амвросия. Амвросий (после его смерти — Иосиф) был духовником сестры Толстого, монахини Марии Николаевны Толстой, келья которой в соседнем монастыре близ села Шамордино была построена по личному проекту Амвросия.
Это даже удивительно! — самый конфликтный в отношениях с русской церковью писатель был связан с нею самыми кровными, самыми интимными узами. Сам факт, что бежавший из Ясной Поляны Толстой направил свои стопы именно в Оптину и Шамордино, говорит о многом. Это был его выбор.
И это был именно сердечный, а не умственный выбор Толстого. Какая уж тут умственность, какая гордыня! Он бежит. Он весь запутался в семейных противоречиях. Его раздирают на части Чертков, С.А., «толстовцы», наследники, просители… Он слаб, грешен, болен и прекрасно понимает это. И вот в состоянии полного отчаяния Толстой совершает единственный сердечно-человеческий выбор. К сестре, в монастырь! В Шамордине поселиться нельзя — это женский монастырь. Но он готов снять избу в деревне. Это даже лучше, ведь он так мечтал жить с народом! Но посмотрим на вещи здраво. 82-летний старик в избе, в деревне?
Корреспондент газеты «Новое время» Алексей Ксюнин после смерти Толстого расспросил крестьян деревни Шамордино, где беглец пытался снять дом.
— Снегом шибко заносит зимой, — говорили крестьяне графу, жалуясь на свою несчастную «жисть», — до города восемнадцать верст, иной раз не выберешься.
— Снег ничего, в нем греха нету, — успокаивал крестьян Толстой. — С весною он растает.
Но до весны предстояло пережить еще зиму. А он в это время уже был простужен, постояв на открытой площадке вагона под ледяным ветром.
И вот, как ни посмотри, самым естественным выходом для Толстого в тот момент было остановиться в Оптиной. Хотя бы на время, хотя бы для того, чтобы собраться с мыслями и принять какое-то новое решение. Ведь понятно, что после ухода из Ясной его несло без руля и без ветрил. Толстой, десятилетиями привыкший к оседлой жизни в Ясной, не имел серьезного опыта странничества. В том, что Толстой хотел остановиться в Оптиной, не может быть никаких сомнений. При его разговоре с сестрой в Шамордине присутствовала ее дочь, племянница Толстого Е.В.Оболенская:
«За чаем мать стала расспрашивать про Оптину пустынь. Ему там очень понравилось (он ведь не раз бывал там раньше), и он сказал:
— Я бы с удовольствием там остался жить. Нес бы самые тяжелые послушания, только бы меня не заставляли креститься и ходить в церковь».
Этот разговор с сестрой приводит в своем донесении епископу Калужскому Вениамину и игуменья Шамординского монастыря:
«В 6 часов вечера граф прибыл в Шамордино в келью сестры; встреча была очень трогательная: он обнял сестру, поцеловал и на плече рыдал не меньше пяти минут; долго потом они сидели вдвоем; он поведал ей свое горе: разлад с женой. Затем был обед. К нему пригласили его доктора и монахиню N… Все четыре кушанья, как то: картофель, грибы, каша и суп, им были смешаны в одно место; ел он много, говорил много; вот его слова:
— Сестра, я был в Оптиной; как там хорошо, с какой бы радостью я теперь надел бы подрясник и жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела; поставил бы условие: не понуждать меня молиться, этого я не могу.
Сестра отвечала:
— Это хорошо, брат, но и с тебя взяли бы условие: ничего не проповедовать и не учить.
Граф ответил:
— Чему учить? Там надо учиться; в каждом встречном насельнике я видел только учителей. Да, сестра, тяжело мне теперь. А у вас? Что, как не Эдем? Я и здесь бы затворился в своей храмине и готовился бы к смерти; ведь 80 лет, а умирать надо!»
Сама Мария Николаевна в письме к С.А., написанном через некоторое время после смерти JI.H., более сдержанно рассказала о его желании остановиться в Оптиной или Шамордине:
«Когда Левочка приехал ко мне, он сначала был очень удручен, и когда он мне стал рассказывать, как ты бросилась в пруд, он плакал навзрыд, я не могла его видеть без слез; но про себя он мне ничего не говорил, сказал только, что приехал сюда надолго, думал нанять избу у мужика и тут жить. Мне кажется, что он хотел уединения, его тяготила яснополянская жизнь (он мне это говорил в последний раз, когда я была у вас) и вся обстановка, противная его убеждениям; он просто хотел устроиться по своему вкусу и жить в уединении, где бы ему никто не мешал».
В письме же французскому переводчику Толстого Шарлю Саломону от 16 января 1911 года Мария Николаевна писала так «Вы хотели бы знать, что мой брат искал в Оптиной пустыни? Старца-духовника или мудрого человека, живущего в уединении с Богом и своей совестью, который понял бы его и мог бы несколько облегчить его большое горе? Я думаю, что он не искал ни того, ни другого. Горе его было слишком сложно; он просто хотел успокоиться и пожить в тихой духовной обстановке».
Толстой явно хотел остановиться в Оптиной. Ему нравилось в Оптиной. Однако ни о церковном покаянии, ни о формальном возвращении в православие речи быть не могло.
В православный монастырь пришел старый Будда. Звучит дико, но не забудем, что это был русский Будда. В соседнем, «дочернем», монастыре живет сестра Будды, самый родной и даже единственный человек, который может его принять таким, какой он есть.
— Так мне здесь хорошо! — говорил Толстой А.П.Сергеенко в Шамордине. — Сестра меня совсем поняла.
Старый Будда не хочет никого учить. Он устал, жаждет покоя, уединения. И, если получится, мудрых, неторопливых бесед с мудрыми людьми, какими он видит оптинских старцев.
Такое было возможно?
«Нет!» — кричали вчера и кричат сегодня ревностные защитники православия от «страшного» графа Толстого. — «Ишь, чего задумал! В монастыре жить, а в церковь не ходить! Да кто он вообще такой! Да он на коленях должен был к старцам приползти!»
Но послушаем голоса духовных иерархов, прозвучавшие в то время. Газета «Русское слово» 31 октября 1910 года, через два дня после отъезда Л.Н. из Оптиной, напечатала мнения православных епископов о возможности или невозможности пребывания Л.Н. в монастыре.
Епископ Макарий: «Надо узнать, куда он ушел, — в православие или буддизм. Если в православие, то церковь радостно примет заблудшего сына, хотя для этого понадобится отречение Толстого от его противохристианского учения столь же торжественное, как отлучение».
Епископ Арсений: «Признание Толстым официальной церкви, уход его в монастырь принесут, несомненно, громадную пользу церкви».
Епископ Никон: «Ведь Толстой не только против церкви, он против самого Христа».
Епископ Евлогий «По моему глубокому убеждению монастырь может принять Л.Н., если даже он и явился туда не для раскаяния, а просто ища отдыха душе своей».
Как видим, одной точки зрения на возможность жизни Л.Н. в монастыре не было даже у высших церковных иерархов. Епископ Томский и Алтайский Макарий был категоричен, а владыка Холмский и Люблинский Евлогий (в миру Василий Георгиевский, в будущем митрополит Западноевропейских русских церквей, скончавшийся в 1946 году в Париже и похороненный на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа) оценивал ситуацию более лояльно.
Владыка Евлогий был поклонником Пушкина и Лескова, любил Мельникова-Печерского и Толстого.
Мнение просвещенного епископа удивительным образом полностью совпадало со взглядом простого рясофорного послушника Михаила, монастырского гостинника. В «Летописи скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Оптиной пустыни» сообщаются детали разговора Толстого с братом Михаилом:
«А приехали, — рассказывал отец Михаил, — они вдвоем. Постучались. Я открыл. Лев Николаевич спрашивает: „Можно мне войти?“ Я сказал: „Пожалуйста“. А он и говорит: „Может, мне нельзя: я — Толстой“. — „Почему же, — говорю, — мы всем рады, кто имеет желание к нам“. Он тогда говорит: „Ну здравствуй, брат“. Я отвечаю: „Здравствуйте, Ваше Сиятельство“. Он говорит: „Ты не обиделся, что я тебя братом назвал? Все люди — братья“. Я отвечаю: „Никак нет, а это истинно, что все — братья“. Ну, и остановились у нас. Я им лучшую комнату отвел. А утром пораньше служку к скитоначальнику отцу Варсонофию послал предупредить, что Толстой к ним в скит едет».
Михаил повел себя как евангельская Марфа: сначала приютил, а потом всё остальное. Но если для Евлогия Толстой — это прежде всего Толстой, то для Михаила — это граф Толстой. Не надо забывать, что Оптинский монастырь в начале XX века хотя и был знаменит среди богомольцев, от нищих до богатых меценатов, но представлял из себя обычный провинциальный монастырь. Добраться к нему с дороги можно было только на пароме через Жиздру, а когда река разливалась весной, обитель порой отрезало от мира. Всех насельников скита в 1910 году было 50 человек, один — скитоначальник игумен Варсонофий, один — старец Иосиф, 6 — иеромонахов, 8 — мантийных монахов, 17 — рясофорных монахов и 17 — рясофорных послушников. Ближайший Козельск был обычным уездным городом. Неожиданное появление «отлученного» Толстого было невероятным событием для тихой монастырской жизни!
А ведь было время, когда Толстого принимали в Оптиной как почетного гостя. Встретиться и поговорить со знаменитым писателем желали все — от архимандрита до простого монаха.
В воспоминаниях слуги Толстого Сергея Арбузова, с которым он пешком ходил в Оптинский монастырь в 1881 году, а также в воспоминаниях С.А., написанных, вероятно, со слов слуги и мужа, наглядно показано иерархическое отношение к богомольцам в монастыре.
Сначала Арбузов вспоминает, как Л.Н. собирался в дорогу: «…граф при моем содействии обулся в лапти по всем правилам крестьянского искусства, с онучами, и завязал их на ногах бечевкой… Затем нам на плечи были приспособлены сумки с вещами; в сумке графа лежали ночное белье, две пары носков, два полотенца, несколько носовых платков, две холщовые блузы, простыня, маленькая подушка и кожаные сапоги».
По дороге в одном селе подвыпивший старшина привязался к Л.Н., надеясь получить от простого и, возможно, беспаспортного странничка мзду за свое освобождение, но, увидев в документах, что это граф Толстой, страшно испугался и старался всячески услужить.
В монастырь пришли вечером, к вечерней трапезе. «Звонил колокольчик на ужин, мы с котомками за плечами вошли в трапезную; нас не пустили в чистую столовую, посадили ужинать с нищими… После ужина пошли на ночлег в гостиницу третьего класса… Монах, видя, что мы обуты в лапти, номера нам не дает, а посылает в общую ночлежную избу, где всякая грязь и насекомые».
В передаче С.А. это выглядит еще неприятней. «В монастырской гостинице Льва Николаевича, одетого в синюю мужицкую рубаху, поддевку и лапти, приняли за простолюдина, и монах-гостинник Ефим говорил с ним грубо:
— Здесь странноприимный дом, вот здесь и спи. Ты нажрался, а я не ел. Вот сядь сюда!
Даже лакей Сергей, который был в шляпе-котелке, пользовался большим уважением».
За рубль дали грязный, маленький номер с клопами, где уже спал третий человек, сапожник, который громко храпел. «Граф вскочил с испуга, — пишет Арбузов, — и сказал мне:
— Сергей, разбуди этого человека и попроси его не храпеть.
Я подошел к дивану, разбудил сапожника и говорю:
— Голубчик, вы очень храпите, моего старичка пугаете; он боится, когда в одной комнате с ним человек спит и храпит.
— Что же, прикажешь мне из-за твоего старика всю ночь не спать?»
Но через два дня всё изменилось.
Его увидел монах Оптиной, бывший крепостной Ясной Поляны. Изумился, увидев своего графа в таком виде:
— Ваше сиятельство, что же вы так смирились!
Толстого стали разыскивать по приказу архимандрита и старца Амвросия. «Приходят два монаха, — вспоминает Арбузов, — чтобы взять вещи графа и просить его в первоклассную гостиницу, где всё обито бархатом. Граф долго отказывался идти туда, но под конец всё-таки решился».
Прием у архимандрита продлился три часа. Потом Толстой пошел к отцу Амвросию и пробыл в его келье четыре часа. Всё это время, вспоминает Арбузов, возле кельи старца ждали приема около тридцати человек «Некоторые говорили, что они здесь дней пять или шесть и каждый день бывают в скиту у кельи о. Амвросия и не могут его видеть и получить благословения. Я спросил, почему же о. Амвросий не может их принять? Говорят, что это происходит не от о. Амвросия, а что о них не докладывает келейник».
После Толстого Амвросий принял и слугу Арбузова и очень сокрушался: не натер ли граф ноги во время ходьбы? В гостинице их ждал прием на самом высоком уровне. «Отворяется дверь, входит монах и спрашивает, не угодно ли его сиятельству обедать… Монахи с удивлением спрашивают, неужели мы всю дорогу шли пешком…» И обедали они на этот раз «в первоклассной гостинице, где ему (Толстому. — П. Б.) служили монахи».
Чинопочитание в монастыре было делом обычным. Например, в 1887 году его впервые посетил великий князь Константин Константинович Романов. В «Летописи» Оптинского скита так сообщается об этом событии «Встреченный всей братией в Святых вратах обители, Великий Князь проследовал в настоятельские покои, предложенные Его Высочеству отцом настоятелем. Был вечер — канун праздника. Высокому гостю по монастырскому обычаю подан был ужин, к которому приглашался и настоятель. Но последний по простоте своей отказался от этой высокой чести, сказав, что он завтра служащий, а в таких случаях не имеет обыкновения ужинать. Эта простота отца Исаакия произвела между прочим отрадное впечатление на Великого Князя, который не раз высказывал, что подобных людей ему не приходилось видеть».
Монастырские приемы отличались особым монастырским этикетом. Настоятель мог позволить себе отказаться от ужина с великим князем, сославшись на то, что не может вкушать пищу перед службой. Но при этом сам ужин проходил в его покоях, которые он освобождал для высокого гостя.
В мае 1901 года монастырь посетили и дети великого князя Константина. Отец в это время был в имении землевладельца Кашкина в селе Прысках, к его приезду стены дома расписали под мрамор. «По желанию Их Высочеств, — сообщает „Летопись“, — торжественной встречи им не делалось ни в монастыре, ни в скиту. Был только звон во все колокола…» 21 мая были именины князя, и «отец игумен со старшим иеродиаконом отцом Феодосией ездил в село Прыски для принесения поздравления Августейшему имениннику, которому отец игумен поднес икону Введения во храм Пресвятой Богородицы в сребропозлащенной ризе и книгу „Описание Оптинской пустыни“».
В этой, на первый взгляд, несправедливости был свой порядок, свой обычай. Необычным и оскорбительным для монастыря было поведение «ряженого» графа. Перед Богом все равны, но не перед настоятелем, который прежде всего отвечал за внутренний, довольно сложный распорядок монастырской жизни, включавший и регулирование наплыва посетителей, особенно летом.
«Ряженый» Толстой грубо нарушал монастырский этикет, посягал на правила.
Ситуация 1881 года почти зеркально повторяла приезд Толстого в монастырь в 1877 году, когда он прибыл туда хотя и как граф, с другом, известным критиком Н.Н.Страховым, но пожелал всё-таки остановиться в гостинице третьего класса как простой богомолец. Это было, конечно, его законное право. Но слух об этом мигом облетел монастырь, и Толстого с его спутником настойчиво попросили переселиться в хорошую гостиницу. Его принял старец Амвросий, они с ним долго беседовали, и Толстой, по его же признанию, остался беседой весьма доволен.
Зачем спустя четыре года он разыгрывает в монастыре во всех отношениях странный спектакль? Зачем мучается в номере с клопами, храпящим сапожником, налагая молчание на уста Фигаро-Арбузова, который через несколько лет опубликует откровенно издевательские воспоминания о посещении его барином Оптиной? Зачем ставит в неловкое положение монастырское начальство?
Тому было много причин. Толстой действительно хотел слиться с народом и увидеть монастырь его глазами, а не глазами важного барина. Ему действительно было неприятно жить в роскошных условиях и принимать пищу из рук услужливых монахов. В этом проявилась и известная «дикость» толстовской породы, не желавшей считаться с общепринятыми нормами, и толстовское упрямство, но отнюдь не «гордыня», как принято считать. Скорее, это было сугубо писательское любопытство будущего автора «Отца Сергия» и «Посмертных записок старца Федора Кузмича». Толстой хотел вжиться в свои будущие произведения всей своей плотью.
Толстой в монастыре был чужеродным телом. И монастырский организм естественным образом это чувствовал и вынуждал поступать по своим правилам, а не по «сценарию» писателя.
Если бы он был просто чудаковатым барином. Но он был великим писателем, не только каждое слово которого, но и каждый жест разносился по России, всему миру. Вот он в монастырской лавке увидел старушку. Старушка не может найти себе дешевое Евангелие. Толстой купил ей дорогое Евангелие. Казалось бы, ну и что такого? Но ведь это Евангелие купил не просто щедрый барин, а человек, поставивший себе задачей спасти евангельское учение от церковной догматики. И обычный жест немедленно становился символом.
В октябре же 1910 года в монастыре появился не только граф и писатель Лев Толстой, но и «отлученный от церкви» Толстой. Это сегодня мы можем разбираться в тонкостях синодального определения 1901 года, согласно которому Толстой стал персоной нон грата в пределах православной церкви. Это сегодня можно спорить, было ли это «отлучение» отлучением. Но тогда в монастыре его воспринимали именно как «отлученного».
Это как в семье… Супруг ушел от жены и живет на стороне. Жена терпит, терпит, а потом подает на развод, который соответствующе оформляется. После этого муж может вернуться к жене, но уже не как муж, а как любовник И они могут заново оформить брак, но это будет неловко, непросто, мучительно.
Эта неловкость чувствуется в каждом шаге, сделанном Толстым по Оптиной осенью 1910 года, в каждом сказанном им слове, в каждом жесте.
По его ощущению его должны были бы выгнать. Но Михаил гостеприимно распахивает дверь лучшей комнаты гостиницы. «Я Лев Толстой, отлучен от церкви, приехал поговорить с вашими старцами, завтра уеду в Шамордино», — на всякий случай быстро поясняет Толстой. А Михаил несет яблоки, мед, устраивает в номере всё по его вкусу.
И Толстой оттаивает душой… В это время он наверняка вспоминает о том, что в Оптиной жила в преклонных годах и скончалась родная сестра его отца, тетушка Александра Ильинична Остен-Сакен, ставшая после смерти брата, Николая Ильича, опекуншей над несовершеннолетними Толстыми. Здесь она и похоронена. Когда-то блестящая светская дама, настоящая «звезда» при дворе. Но… неудачное замужество, психическая болезнь мужа… «Тетушка была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками… Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась… но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим», — писал Толстой.
Впервые он посетил Оптину в 1841 году, когда хоронили Александру Ильиничну. Левочке тогда исполнилось тринадцать лет. Позже племянники поставили на ее могиле скромный памятник с такой трогательной эпитафией:
Уснувшая для жизни земной,
Ты путь перешла неизвестный,
В обителях жизни небесной
Твой сладок, завиден покой.
В надежде сладкого свиданья
И с верою за гробом жить,
Племянники сей знак воспоминанья
Воздвигнули, чтоб прах усопшей чтить.
Здесь также жила, скончалась и была похоронена Елизавета Александровна Ергольская, родная сестра самой любимой «тетеньки» Толстого Татьяны Александровны Ергольской. Обе тетушки, Александра Ильинична и Елизавета Александровна, не были монахинями. Они просто жили при монастыре. И нашли здесь вечный покой.
По дороге к скитам у Толстого случилась встреча с другим гостинником, отцом Пахомом, бывшим солдатом гвардии.
Отец Пахом, уже зная, что Толстой приехал в монастырь, вышел ему навстречу.
— Это что за здание?
— Гостиница.
— Как будто я тут останавливался. Кто гостинник?
— Я, отец Пахом грешный. А это вы, ваше сиятельство?
— Я — Толстой Лев Николаевич. Вот я иду к отцу Иосифу, старцу, я боюсь его беспокоить, говорят, он болен.
— Не болен, а слаб. Идите, ваше сиятельство, он вас примет.
— Где вы раньше служили?
Пахом назвал какой-то гвардейский полк в Петербурге.
— А, знаю… До свидания, брат. Извините, что так называю; я теперь всех так называю. Мы все братья у одного царя.
И еще была одна встреча, с гостиничным мальчиком. «Со мной тоже разговаривал Лев Николаевич, — с гордостью рассказывал мальчик — Спрашивал, дальний ли я или ближний, кто мои родители, а потом этак ласково потрепал да и говорит: „Ты что ж тут, в монахи пришел?“»
С самого начала приезда в Оптину «отлученного» Толстого встречали как отца родного: и паромщик, и гостинники, и мальчишка… Все были рады появлению этого незаурядного человека, знаменитого писателя и в то же время такого простого, такого доступного «дедушки». И в этот раз Толстой ни во что не «рядился». Он ведь и был дедушкой. И он всегда умел найти кратчайший путь к сердцу простого человека, подробно расспрашивая его о жизни, интересуясь каждой мелочью.
Всё было замечательно, пока Толстой не дошел до скита.
Вот он — самый волнующий момент последнего посещения Толстым Оптиной! Почему он не встретился с Иосифом, ради чего, собственно, приехал в монастырь, вовсе не рассчитывая на ласковый прием, который ему оказали простые насельники? Почему Иосиф не позвал Толстого, которого сам приглашал к себе Амвросий?
Именно в оценке этого события полярно разделяются голоса ревнителей православия и его противников. «Гордыня!» — говорят одни. «Гордыня!» — говорят и другие.
В самом деле, на поверхностный взгляд тут столкнулись два авторитета, церковный и светский. Два старца. Один не позвал, второй — не пошел. А если бы позвал? А если бы сам пошел? Может, и состоялось бы примирение между церковью и Толстым, не формальное, не ради Синода, не ради царя и Столыпина, которые, кстати, были всячески заинтересованы в таком примирении перед лицом Европы. Не ради буквы, не ради иерархов, не ради государства. Ради простых гостинников Михаила и Пахома, ради мальчика Кирюшки, который взрослым монахом гордился бы своей встречей с великим писателем России. Ради тех простых монахов, которые, по свидетельству Маковицкого, толпились возле парома, когда Лев Толстой, несолоно хлебавши, отплывал от Оптиной навсегда, в какую-то свою вечность, как будто вечность в России не одна для всех.
— Жалко Льва Николаевича, ах ты, господи! — шептали монахи. — Да! Бедный Лев Николаевич!
Толстой в это время, стоя у перил, разговаривал с миловидным седым стариком-монахом в очках. По-стариковски участливо расспрашивал его о зрении. Вспомнил анекдот из своей казанской молодости, когда ему, студенту, татарин предлагал: «Купи очки». — «Мне не нужны». — «Как не нужны! Теперь каждый порядочный барин очкам носит».
«Переправа была короткой, — пишет Маковицкий, — одна минута». Всего одна минута, и один из самых важных духовных вопросов предреволюционной России, конфликт Толстого и церкви, был с русской беспечностью оставлен «на потом». Хотя тогда ничего нельзя было оставлять «на потом». Потом ничего исправить было уже нельзя.
Когда Толстой умер и был похоронен в Ясной, на краю оврага в Старом Заказе, на могильный холм приходила дурочка Параша и отпевала его по-свойски, по-народному:
Уж куда ты, несмышлененький, ушел,
Уж куда ты собирался,
По какой-то по дороженьке,
Уж на кого ты нас оставил, глупеньких,
На кого ты бросил нас…
На кого покинул нас…
Над Парашей смеялись крестьянские бабы. Вот дура, отпевает графа! Но дура была, конечно, в тыщу раз умнее «глупеньких» и «несмышлененьких» участников неловкой истории, которая разыгралась 29 октября в Оптиной. Как раз этой дуры-то и не хватило, чтобы взять Толстого за руку и отвести к старцу.
Все вели себя как-то слишком по-умному, все были как будто в своем праве. Настоятель монастыря архимандрит Ксенофонт болел. Несколько дней назад он вернулся в монастырь из Москвы после операции. И не мог игумен монастыря встречаться с еретиком такого масштаба, как Толстой, не получив разрешения калужского владыки.
«Долгом своим считаю почтительнейшим донести Вашему Преосвященству, что 28 прошлого Октября в вверенную мне пустынь приезжал, с 5-часовым вечерним поездом, идущим от Белева, граф Лев Николаевич Толстой, в сопровождении, по его словам, доктора… 29 Октября часов в 7 утра к нему приехал со станции какой-то молодой человек, долго что-то писали в номере, и с этим же извозчиком доктор его ездил в г. Козельск. Часу в 8-м утра этого дня Толстой отправился на прогулку; оба раза ходил один. Во второй раз его видели проходившим около пустого корпуса, находящегося вне монастырской ограды, называемого „Консульский“, в котором он бывал еще при жизни покойного старца Амвросия, у покойного писателя К.Леонтьева; затем проходил около скита, но ни у старцев, ни у меня, настоятеля, он не был. Внутрь монастыря и скита не входил. С этой прогулки Толстой вернулся в часу в первом дня, пообедал и часа в три дня этого же числа выехал в Шамордино, где живет его сестра-монахиня. В книге для записи посетителей на гостинице он написал: „Лев Толстой благодарит за прием“».
Это из «доношения» игумена Ксенофонта владыке Вениамину. Из него можно понять следующее… Толстой не побывал не только в скиту, но даже и в монастыре. В самом деле, внимательно читая Маковицкого, Сергеенко, Ксюнина и дневник Толстого, мы нигде не найдем упоминания о том, что Толстой пересек Святые врата и зашел на территорию монастыря. Толстой в буквальном смысле бродил «около церковных стен», выражаясь языком В.В.Розанова.
Гостиница и скит находились за территорией монастыря. «Л.Н. ходил гулять к скиту, — пишет Маковицкий. — Подошел к его юго-западному углу. Прошел вдоль южной стены… и пошел в лес… В 12-м ч. Л.Н. опять ходил гулять к скиту. Вышел из гостиницы, взял влево, дошел до святых ворот, вернулся и пошел вправо, опять возвратился к святым воротам, потом пошел и завернул за башню к скиту».
Это была как будто обычная прогулка… В руках Толстой держал раскладную палку-сидение, которую всегда брал на прогулки в Ясной Поляне. Но «Л.Н. утром по два раза никогда не гулял». Маковицкий обращает внимание на странность поведения Толстого. «У Л.Н. видно было сильное желание побеседовать со старцами».
Но что-то ему мешает. Вернувшись со второй прогулки, сказал:
— К старцам сам не пойду. Если бы сами позвали, пошел бы.
В этих словах видят проявление «гордыни» Толстого. В самом деле, почему просто не постучался в домик Иосифа, который выходил крыльцом за ограду скита именно для того, чтобы всякий паломник мог попроситься на прием к старцу через его келейника? Почему ждал, чтобы его непременно «позвали»? Даже если Маковицкий неточно передает его слова, и без слов ясно, что Толстой ждал приглашения и без него не желал делать первый шаг. Но знал ли об этом Иосиф?
Да, знал. Вот что рассказывает в «Летописи…» келейник старца Иосифа:
«Старец Иосиф был болен, я возле него сидел. Заходит к нам старец Варсонофий и рассказывает, что отец Михаил прислал предупредить, что Л.Толстой к нам едет. „Я, — говорит, — спрашивал его: „А кто тебе сказал?“ Он говорит: „Сам Толстой сказал“. Старец Иосиф говорит: „Если приедет, примем его с лаской и почтением и радостно, хоть он и отлучен был, но раз сам пришел, никто ведь его не заставлял, иначе нам нельзя“. Потом послали меня посмотреть за ограду.
Я увидел Льва Николаевича и доложил старцам, что он возле дома близко ходит, то подойдет, то отойдет. Старец Иосиф говорит: „Трудно ему. Он ведь к нам за живой водой приехал. Иди, пригласи его, если к нам приехал. Ты спроси его“. Я пошел, а его уже нет, уехал. Мало еще отъехал совсем, а ведь на лошади он, не догнать мне было…“
Однако последнее объяснение противоречит тому, что происходило на самом деле и было скрупулезно, по минутам, зафиксировано в дневнике Маковицкого. После второй прогулки Толстой пешком вернулся в гостиницу и плотно пообедал („Л.Н. показались очень вкусны монастырские щи да хорошо проваренная гречневая каша с подсолнечным маслом; очень много ее съел“, — пишет Маковицкий). Он расплатился с гостинником („Что я вам должен? — По усердию. — Три рубля довольно?“). Он расписался в книге почетных посетителей и пешком дошел до парома, где его уже на двух колясках догнали Сергеенко и Маковицкий. У парома Толстого провожали пятнадцать, по подсчетам Маковицкого, монахов.
Догонять Толстого не было нужды. Толстого надо было просто позвать. Он сам не пошел к Иосифу, потому что знал о его болезни и просто не хотел беспокоить старого больного человека без приглашения. Об этом он ясно сказал сестре Марии Николаевне в Шамордине. И еще он сказал, что боялся, что его, как „отлученного“, не примут. Толстого элементарно подвела аристократическая деликатность. В свою очередь, Иосиф не знал твердо, зачем приехал Толстой. О том, что он хочет говорить с ним, Иосиф знал только по слухам. И, наконец, Иосиф еще ничего не мог знать о самом главном — об уходе Толстого. Об этом еще никто, кроме самых близких, не знал. Еще не было газетных сообщений об этом, которые появятся только на следующий день.
Уже после смерти Толстого в присутствии Маковицкого, снова посетившего монастырь в декабре 1910 года, одна игуменья выговаривала отцу Пахому: зачем он не отвел Толстого к старцу, зная, что граф хочет с ним говорить? „Да как-то не решился… — оправдывался отец Пахом. — Не хотел быть навязчивым“».
Читать это постфактум невозможно без горечи. Все вроде бы поступают правильно. И даже благородно. Но при этом все… какие-то больные, расслабленные. И никто не решается сделать первый шаг навстречу друг другу. А в результате великий русский писатель бродит, как неприкаянный, «около монастырских стен».
В Шамордине Толстой сказал сестре, что собирается еще раз вернуться в Оптину и поговорить с Иосифом. Но было уже поздно. Какая-то неведомая сила гнала Толстого дальше и дальше.
Вдруг
В биографии Толстого можно выделить три события, которые не просто оказали влияние на течение его жизни, но радикально изменили ее, развернули на 180°. Это женитьба, духовный переворот конца 70-х — начала 80-х годов и уход из Ясной Поляны.
Однако последнее событие слишком тесно примыкает к астаповской трагедии и смерти Толстого, фактически сливаясь с ними. К тому же оно и занимает всего 10 дней, чтобы можно было говорить о новом этапе жизни Толстого. Таким образом, самых главных событий его жизни было два: женитьба и духовный переворот.
Никакие иные события, ни отъезд на Кавказ, ни севастопольская кампания, ни смерть любимого брата Николеньки, ни «арзамасский ужас», ни ранняя смерть детей, даже самых любимых, Вани и Маши, не меняли до такой степени самого строя жизни Толстого, не превращали его вдруг в принципиально нового человека.
Толстой до женитьбы и после — два принципиально разных человека, так же, как Толстой до духовного переворота и после. Вдруг меняется решительно всё! Мир представляется совсем в новом свете, а смысл и значение тех или иных людей, вещей, страстей, положений — меняется со знака «+» на знак «-» и наоборот.
Толстой до женитьбы — это несчастный человек! И невозможный человек, на взгляд окружающих. В одно и то же время путается с девками, проигрывает последние деньги, живет как с «женой» с чужой женой, ссорится с Тургеневым, доводя скандал почти до дуэли…
Понятно, что ни о каком гармоническом строе жизни в этих условиях не могло быть и речи. И Толстой это понимает. Он отнюдь не пытается искать причины этого душевного раздрая вовне. Только в себе! Какими только бранными словами он не называет себя в дневнике накануне женитьбы. «Дурак», «свинья», «скотина», «старый черт», «сумасшедший» и т. п.
«Часто с ужасом случается мне спрашивать себя: что я люблю? ничего…» «На себя тошно, досадно…» «Нажрался с Васинькой (Перфильевым. — П.Б.) нынче и сопели, лежа друг против друга…»
И всё валится из рук… Перед венчанием обнаруживается, что чистая сорочка осталась в карете с вещами и на венчание ехать не в чем. Возникает заминка. В церкви ждут жениха, а его нет. Соня уже думает, что он сбежал, как Подколесин. Что же, неудивительно… Ведь до этого он фактически сбежал от ее старшей сестры Лизы в самарские степи, как сбегал от Арсеньевой в Петербург… Кстати, в дневнике Толстого есть запись: «В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства». Если вспомнить, что Толстой был еще и суеверным человеком и всю жизнь считал надетую утром наизнанку рубашку дурным знаком, то отсутствие рубашки в день венчания вполне могло сыграть роковую роль.
Утром в день свадьбы Л.Н. неожиданно пришел в дом Берсов и прошел прямо в девичью. Лизы не было дома, а Танечка ретировалась из комнаты и побежала докладывать матери о внезапном приезде жениха к Соне. Мать была удивлена и недовольна: в день свадьбы это не полагалось. Она пошла в девичью и застала их вдвоем «между важами, чемоданами и разложенными вещами». Соня была заплакана. Оказалось, что Л.Н. не спал всю ночь и теперь «допытывался у нее, любит ли она его», «может быть, воспоминания прошлого с Поливановым смущают ее» и не «лучше ли было бы разойтись тогда». Соня убеждала, что это не так. В конце концов ее душевные силы иссякли, и она заплакала.
Но и рубашка нашлась, и венчание состоялось, а радости как не было, так и нет.
Собравшаяся на венчании публика обращала внимание на разницу в возрасте жениха и невесты, на ее заплаканные глаза и делала свои выводы. «Знать, насильно отдают…» «Ишь молоденькая какая, а он старый…» «Зато граф, богатый, говорят…»
Муж был недоволен слезами Сонечки при расставании с семьей. «Он тогда не понял, — писала С.А., - что если я так страстно, горячо любила свою семью, — то ту же способность любви я перенесу на него и на детей наших. Так и было впоследствии».
Ехали почти сутки… Ночь в дормезе была мучительной для молодой жены. «Один стыд чего стоил!» — восклицает она в мемуарах. Кроме этого ничего не запомнила от поездки: где останавливалась, о чем говорили?
Первая ночь, проведенная в Ясной, по свидетельству Толстого, была «тяжелой». За утренним кофе муж с женой ощущали себя «неловко».
Но вдруг происходит чудо! В тот же самый день, 25 сентября 1862 года, он пишет в дневнике: «Неимоверное счастье… Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью».
Неутомимая Sophie
Соня, привыкшая к кремлевскому быту семьи любящих родителей, была смущена «дикостью» холостяцких и в то же время старинно-барских привычек своего мужа. Отсутствие столового серебра при сервировке стола было для нее странно. Да какое там серебро… Братья Толстые привыкли спать в доме на соломе, без простыней. По всему дому стоял запах сена, а вокруг дома буйно рос бурьян. Дорожки были нерасчищены, слуги одеты неопрятно. Да что там слуги… И сам хозяин дома днем облачался в старый длинный халат с пристегивающимися полами, который одновременно служил пижамой.
Повар Толстого, Николай Михайлович, еще при Волконском переведенный в повара из музыкантов за потерю амбушюры (мундштук для флейты), был, по мнению С.А., «чрезвычайно грязен». Он часто запивал, хотя «готовил недурно». Однажды за обедом С.А. расплакалась, найдя в своей тарелке с похлебкой «отвратительного паразита». Старые железные вилки кололи ей рот, а вид супруга, спавшего под ватным одеялом, на подушке без наволочки, был страшен.
И еще в яснополянском быте остро ощущалась атмосфера раннего сиротства, недостаток отцовской и материнской заботы, т. е. всего того, чем в детстве и юности была окружена СА Недаром особенно нежные чувства в ее муже вызывал Нижний парк с его сентиментальными уголками, мостиками и беседкой, напоминавшими о трогательных уединенных прогулках отца и матери. И это обстоятельство, вместе с «дикостью» Толстого, восемнадцатилетней С А тоже надо было прочувствовать, принять сердцем и оценить разумом. От нее требовались и практичность, и деликатность в освоении нового душевного пространства.
«Неутомимая Sophie», как называла ее Александра Андреевна Толстая, не просто справилась с этой задачей, но, по сути, заново сформировала яснополянский быт по своему вкусу. Если в начале «Войны и мира» Наташа Ростова — это младшая из сестер Берсов — Танечка, то замужняя Наташа — это, конечно, Соня.
Очаровательная внешность, без броской и раздражающей красоты. Телесная привлекательность. Живой, всё быстро схватывающий и осваивающий ум. Неизбалованность — в семье Берсов не баловали дочерей. Сильный материнский инстинкт и несомненный воспитательский талант. И вместе с тем — нефальшивый, горячий интерес к творчеству мужа… Именно к творчеству, а не к хозяйству, которым некоторое время «горел» Л.Н., занимаясь разведением пчел, японских свиней и постройкой винокуренного завода. Сельское хозяйство С.А. не любила и не скрывала этого.
Сохранилась ее яснополянская записная книжка, где она детально расписала, что она «любит» и что «не любит».
Что я люблю:
В душе покой.
В голове мечту.
Любовь к себе людей.
Люблю детей.
Люблю всякие цветы.
Солнце и много света.
Лес.
Люблю сажать, стричь, выхаживать деревья.
Люблю изображать, т. е. рисовать,
фотографировать, играть роль;
люблю что-нибудь творить — хотя бы шить.
Люблю музыку с ограничением.
Люблю ясность, простоту, талантливость
в людях.
Наряды и украшения.
Веселье, празднества, блеск, красоту.
Люблю стихи.
Ласку. Сентиментальность.
Люблю работать производительно.
Люблю откровенность, правдивость…
Что я не люблю:
Вражду и недовольство людей.
Пустоту в душе и мысли, хотя бы временную.
Осень. Темноту и ночь.
Мужчин (за редкими исключениями).
Игру за деньги.
Затемненных вином и пороками людей.
Секреты, неискренность, скрытность,
неправдивость.
Степь.
Разгульные, шумные песни.
Процесс еды.
Не люблю никакого хозяйства.
Не люблю: бездарность и хитрость,
притворство и ложь.
Не люблю одиночества.
Не люблю насмешек, шуток, пародий,
критики и карикатур.
Не люблю праздность и лень.
Трудно переношу всякое безобразие.
Невозможно представить, чтобы что-то подобное написал Толстой. Манера его дневников более тонкая, если угодно, более «женственная». Толстой всячески стремился понять и принять «чужое», найти ему оправдание и, напротив, никогда не находил оправдания самому себе. Для него не было жестких границ между «своим» и «чужим». Если он их чувствовал, то старался преодолеть. Вообще, категорическое «не люблю» не из лексикона Толстого.
Л.Н. и С.А. были очень разные, по сути, диаметрально противоположные натуры.
Она воплощала в себе, условно говоря, «буржуазный» женский тип, со всеми его недостатками и добродетелями, прекрасно отраженными в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», любимом романе С.А.
С.А. - тип верующего прагматика. В ее девичьем дневнике, случайно сохранившийся отрывок из которого она приводит в своих мемуарах, была любопытная запись:
«…характер, нравственность — всё зависит от устройства мозга, нерв, жил, внутренностей… Зависит от теплой, ясной погоды, от хорошей пищи, теплого жилья. Материя, идеальное, душа… Боже мой, какой хаос! Какие важные вопросы, а кто разрешит их? Есть же что-то загадочное в мире?»
Еще девочкой она посетила монастырь в подмосковном Новом Иерусалиме и была потрясена распятием Христа в натуральную величину: «…во весь рост статуя, вся раскрашенная, одетая в черный, бархатный халат, с цепями на руках… И жутко было смотреть на эту куклу, и тотчас же возникла мысль, что это идолопоклонство, а надо всё, — тем более религию, — идеализировать, и во всяком случае отношение к Христу должно оставаться в области отвлеченной».
С.А. всю жизнь была верующим и церковным человеком, к этому приучала и детей своих, сердилась на антицерковные выступления мужа. Но, в отличие от Л.Н., в ее религиозности не было мистицизма. Бог, конечно, есть… Но Он так далеко и так непонятен, что жить надо по земным правилам, в которые входят и законы церковные.
Л.Н. воплощал в себе совсем другой, условно говоря, «барский» тип, лучше всего отраженный в романе Гончарова «Обломов».
Толстой был верующим идеалистом. Бог не где-то далеко… Он вокруг нас и, в конце концов, в самих нас. Отсюда непостижимы и таинственны как раз законы земной жизни, которые необходимо понять не отвлеченно, но всем сердцем и разумом, согласуясь с непосредственной волей Божьей, явленной в мире.
С.А. была практична в домашнем хозяйстве. Составляла меню на месяц вперед, чтобы не тратить лишних денег во время закупки провизии. И в то же время любила свет, балы, модные наряды. Ее муж был непрактичен в домашнем быту и терпеть не мог светские развлечения, тяготился шикарной обстановкой дома в Хамовниках, был скуп в использовании писчей бумаги и даже энергии батарейки электрического фонаря, но не потому, что «жалко денег», а потому, что это чужой труд, который стыдно расходовать просто так.
С.А., отличаясь буржуазным темпераментом в ведении домашних дел, была одновременно сентиментальна, чувствительна на мелочи, не стесняясь в выражении своих чувств.
Л.Н. был, пожалуй, не менее сентиментален. Но крайне скуп во внешнем проявлении чувств. Стыдился ласкать детей, не выносил истерик жены, к которым она была, увы, склонна.
С.А. в своем поведении на людях была прямолинейна, говорила в лицо всё, что думает и чувствует. Л.Н. был крайне тактичен в обращении с чужими людьми, боялся задеть их неосторожным словом. Только он мог придумать такое семейное развлечение, как «нумидийская конница». Дождавшись (дождавшись!) ухода неприятного, наскучившего гостя, он и все домочадцы вставали в цепочку и скакали вокруг стола, потряхивая над головой ладонями. Таким образом они снимали напряжение, внесенное в дом неприятным человеком. Но подать гостю знак, что он неприятен и ему пора уходить, было немыслимо.
С.А. обожала природу, но не любила деревню и мужиков, оставаясь человеком города. Будучи в Москве или Петербурге, она не пропускала ни одного важного концерта, спектакля или выставки. Л.Н. не любил город, даже Москву, где люди не здороваются друг с другом, и был исключительно человеком деревни. После духовного переворота он не признавал концертов, крайне специфически относился к театру, даже став знаменитым драматургом, автором «Власти тьмы»; отличался узостью в восприятии живописи, не только не принимая новых веяний, но и не признавая, например, значения пейзажей.
Каким образом два настолько разных человека могли полюбить друг друга, кажется непостижимым.
Но была любовь! И не просто любовь, а «неимоверное счастье». Неправильно считать, что эта любовь покинула Л.Н. вместе с половым влечением, с «чувством оленя», как порой думала сама С.А. В самых поздних дневниковых записях Толстого есть выражения такой любви к жене, которые невозможно сымитировать.
В апреле 1863 года на Пасху С.А. пишет младшей сестре в Москву: «Скучно мне было встречать праздники, ты ведь понимаешь, всегда в праздники всё больше чувствуешь, вот я и почувствовала, что не с вами, мне и стало грустно. Не было у нас ни веселого крашения яиц, ни всенощной с утомительными 12-ю Евангелиями, ни плащаницы, ни Трифоновны (экономка Берсов. — П.Б.) с громадным куличом на брюхе, ни ожидания заутрени — ничего… И такое на меня напало уныние в Страстную Субботу вечером, что принялась я благим матом разливаться, плакать. Стало мне скучно, что нет праздника. И совестно мне было перед Левочкой, и делать нечего… В Светлое Воскресение я утешилась, и стали мы с Левой смотреть на все с критической ‹стороны›… Наш поп, отец Константин, ораторствовал и врал такую чушь, что надо было истинно-христианское терпение, чтобы слушать его…»
Однако отсутствие обрядовой религиозности в муже не слишком тяготило Сонечку. Во всяком случае, не так, как позднее она будет страдать от его «нового христианства». Скорее, она просто скучала по матери и сестрам, по кремлевской жизни, в этой связи вспоминая, как праздновали Пасху в Москве. В том же письме к Тане просит: «Еще, Таня, напиши мне, голубушка, что у вас носят и будут носить. Какие материи, какой цвет, какие шляпы…»
С другой стороны, весь быт яснополянской усадьбы был пропитан старинными преданиями и религиозным пиетизмом, напоминавшим о матери Толстого. В комнате тетеньки Ергольской и ее старой приживалки Натальи Петровны висели старинные черные образа. В соседнем флигеле проживало удивительное старое существо — бывшая горничная бабушки Толстого Пелагеи Николаевны — Агафья Михайловна. Вечно одетая в старую кофту, из которой клоками торчала вата, она собирала по округе бездомных собак, живших в ее флигеле на тех же правах, что и хозяйка. Ее называли «собачьей гувернанткой». Как и тетенька Ергольская, Агафья Михайловна была «девушкой» и жила исключительно ради других. Но она имела и свою гордость, о которой пишет старшая дочь Толстых Татьяна Львовна:
«Раз заболела гостившая у нас моя тетя Татьяна Андреевна Берс, младшая сестра матери. Как водилось, послали за Агафьей Михайловной.
— Я только что пришла из бани, — рассказывала Агафья Михайловна, — напилась чая и легла на печку. Вдруг слышу кто-то в окно стучит. „Что тебе?“ — кричу. „За вами Татьяна Андреевна прислали — заболели, так просят вас прийти походить за ними“. А я только что на печке угрелась, не хочется слезать, одеваться да по холоду в дом идти. Я и ответила: „Скажи, не может, мол, Агафья Михайловна прийти, только что из бани“. Ушел посланный, а я лежу и думаю: „Ох, нехорошо это я делаю, себя жалею, а больного человека не жалею“. Спустила я ноги с печки, стала обуваться. Вдруг слышу, опять в окно стучатся. „Ну, спрашиваю, чего еще?“ — „Татьяна Андреевна прислали вам сказать, чтобы вы беспременно приходили — они вам на платье купят“. — „А! а-а, говорю, на платье купит… Передай, что сказала, что не приду, и не приду“. Скинула я с себя валенки, влезла опять на печь и долго уснуть не могла. Не за платья я больных жалею… Любила я Татьяну Андреевну, а как обидела она меня…»
Верующая Агафья Михайловна могла, тем не менее, повернуть икону святого ликом к стене, когда он плохо «помогал». В то же время она обладала «экзистенциальным» сознанием и однажды поразила Л.Н. рассказом, который он любил вспоминать до конца дней:
«Вот лежу я раз одна, тихо, только часы на стенке тикают: кто ты, что ты? Кто ты, что ты? Кто ты, что ты? Вот я и задумалась: и подлинно, думаю: „Кто я? Что я?“ Так всю ночь об этом и продумала».
Агафья Михайловна жалела мух, тараканов и кормила мышей, которые в ее флигеле становились почти ручными. «Умерла Агафья Михайловна, когда никого из нас в Ясной Поляне не было, — вспоминала Сухотина-Толстая. — Умерла она спокойно, без ропота и страха. Перед смертью она поручила передать всей нашей семье благодарность за нашу любовь. Рассказывали, что когда ее понесли на погост, то все собаки с псарки с воем проводили ее далеко за деревню по дороге на кладбище».
«В доме жили странные люди… — продолжает Сухотина-Толстая. — Живал подолгу монах Воейков. Он был брат опекуна моего отца и его братьев и сестры. Ходил Воейков в монашеском платье, что очень не вязалось с его пристрастием к вину. Жил еще карлик. На его обязанности лежала колка дров, но, кроме того, он всегда играл большую роль в разных забавах и маскарадах Ясной Поляны. Живала старуха странница Марья Герасимовна, ходившая в мужском платье. Она была крестной матерью моей тетки Марьи Николаевны».
Конечно, это разительно отличалось от кремлевской жизни семьи Берсов, где во время прогулок девочек сопровождал лакей в каске с «шишаком». Зато в Ясной можно было увидеть цыган с живым медведем.
— Михайло Иваныч, поклонись господам.
Медведь кряхтел, вставал на задние лапы и, звеня цепью, кланялся в ноги.
— Покажи, как поповы ребята горох воруют.
Медведь ложился на землю и крался к воображаемому гороху.
— Покажи, как барышни прихорашиваются.
Медведь садился на задние ноги, перед ним держали зеркальце, и он передними лапами гладил себе морду.
— Умри!
Медведь, кряхтя, ложился и лежал неподвижно.
«Кончалось всё это обыкновенно тем, — писал старший сын Толстых Сергей Львович, — что всем, в том числе и медведю, подносилась водка. Выпивши, медведь делался добродушным, ложился на спину и как будто улыбался…»
Эта бытовая поэзия Ясной Поляны, оставившая столь неизгладимое очарование в детях Толстого, что все они вспоминали о яснополянском детстве как о рае, на их мать, в ее восемнадцать-девятнадцать лет, произвела впечатление совсем не однозначное. В конце концов, она просто привыкла к ней.
«В первые дни моего замужества, — вспоминала С.А., - приходили нас поздравлять: дворовые, крестьяне, школьники. Моя мать дала мне, на мои расходы, чтобы первое время не брать денег у мужа, 300 рублей, и я почти всё раздала поздравляющим нас. Мне тогда казалось, что все такие добрые, так нас любят, и меня радовали, хотя очень конфузили, эти поздравления. Тут была и старая жена дядьки Николая Дмитриева — Арина Игнатьевна с дочерью Варварой; скотница Анна Петровна с девочками Аннушкой и Душкой, староста Василий Ермилин, кондитер Максим Иванович, старая горничная бабушки Пелагеи Николаевны — сухая, строгая Агафья Михайловна, веселая прачка Аксинья Максимовна с красивыми дочерями Полей и Марфой; кучера, садовник и много всяких чуждых и чужих людей, с которыми после еще долго пришлось жить (курсив мой. — П.Б.)».
Все эти непонятные люди, питавшие творческое воображение ее супруга, автора «Детства» и «Отрочества», «Поликушки» и гениального в своей поэтической простоте позднего рассказа «Алеша Горшок», оставались чужды С.А. Показательно отношение жены Толстого к реальному прототипу Алеши Горшка, деревенскому полуидиоту, который действительно проживал в Ясной Поляне. «Например, приходил с деревни дурачок, по прозвищу Алеша Горшок, и его заставляли производить неприличные звуки, и все хохотали, а мне было гадко и хотелось плакать», — вспоминала она примерно в то же самое время, когда Толстой писал рассказ «Алеша Горшок».
У непосвященного читателя воспоминаний С.А. может возникнуть ложное впечатление, будто в «дикую» деревенскую глухомань с медведями и юродивыми, с «собачьими гувернантками» и пукающими идиотами привезли рафинированную столичную барышню. На самом деле всё было не так…
Аристократом был как раз ее муж. Но аристократизм Толстого был не показной, а старинный, усадебный. «По своему рождению, по воспитанию и по манерам, — писал сын Толстого Илья Львович, — отец был настоящий аристократ. Несмотря на его рабочую блузу, которую он неизменно носил, несмотря на его полное пренебрежение ко всем предрассудкам барства, он барином был, и барином он остался до самого конца своих дней».
Sophie была хорошо образована, знала французский и немецкий языки, имела университетский диплом домашней учительницы, полученный экстерном, умела рисовать, играть на фортепьяно и обладала несомненным литературным талантом, позволявшим писать детские рассказы (книга «Куколки-скелетцы») и переводить философские сочинения своего мужа на французский язык. В поздние годы она увлекалась живописью и достигла в этом больших успехов.
Но всё-таки главным ее талантом были хозяйство и дети. Недаром ее бабушка говорила: «У Сони голова в чепце». Именно этот чепчик, символ домашней хозяйки, и стал первой деталью, на которую обратил внимание Л.Н. в первом письме из Ясной, где он говорит о своем семейном счастье.
«…дай Бог тебе такого же счастья, какое я испытываю, больше не бывает, — пишет он 2 5 сентября 1862 года в Москву Танечке Берс. — Она (Сонечка. — П.Б.) нынче в чепце с малиновыми — ничего.
И как она утром играла в большую и в барыню, похоже и отлично».
Это был первый день их совместной жизни. Через три дня Толстому будет тридцать четыре года, месяц назад Сонечке исполнилось 18 лет. Соня перед ним еще «на цыпочках». Он великий, гениальный! Он — хозяин целого имения. И не одного — в ста верстах прекрасное Никольское, оставшееся после смерти брата Николая. Он — писатель, педагог, страстный охотник и выбран мировым посредником в деле освобождения крестьян. Наконец, это физически очень сильный мужчина. Когда какой-то прохожий «пиджак» стал подсматривать за его женой, купавшейся в пруду, он догнал его и крепко вздул. Ни о каком «непротивлении» еще не может быть и речи. Это яростный Толстой. Как он был взбешен, когда, еще до свадьбы, в Ясную заявилась полиция и обыскала его дом, пытаясь найти запрещенные книги и чуть ли не типографию со свеженькими сочинениями Герцена. Счастье, что он в это время находился в самарских степях, иначе Л.Н. непременно застрелил бы станового!
Своим авторитетом, физической силой он подавляет Соню: «Гениально талантливый, умный и более пожилой и опытный в жизни духовной — он подавлял меня морально». «Мощь физическая и опытность пожившего мужчины в области любви — зверская страстность и сила — подавляли меня физически».
На ее стороне как будто бы очень немного: молодость и «чепчик». Молодая, красивая, она права какая есть, даже если она не права. Письма Толстого 1862-63 годов, просто-таки дышат глупым счастьем молодожена.
«Таня! Знаешь, что Соня в минуты дружбы называет меня пупок. Не вели ей называть меня „пупок“, это обидно. А я так люблю, когда ты и Соня называете меня Дрысинькой… Таня! Зачем ты ездила в Петербург?… Тебе там скучно было. Там…»
Дальше письмо продолжает Соня согласно установившейся у них привычке писать письма в «две руки».
В увлекательном единоборстве мужа и жены молодость и привлекательность Сони были гораздо сильнее его физической силы. Письма и дневник Толстого первых лет женитьбы оставляют чувство какого-то пьяного счастья.
«…пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете, — сообщает он А.А.Толстой. — Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым… Теперь у меня постоянно чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье. Вот она идет, я ее слышу и так хорошо».
«Фетушка, дядинька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич. — Я две недели женат и счастлив и новый, совсем новый человек».
Е.П.Ковалевскому: «…вот месяц, как я женат и счастлив так, как никогда бы не поверил, что могут быть люди».
М.Н.Толстой: «Я великая свинья, милая Маша, за то, что не писал тебе давно. Счастливые люди эгоисты».
И.П.Борисову: «Дома у нас всё слава Богу и живем мы так, что умирать не надо».
Со своей «последней любовницей», педагогикой, он на время распрощался. И не только потому, что педагогический журнал «Ясная Поляна» не вызвал серьезного общественного интереса. И не только потому, что крестьянским детям во время полевых работ было не до учебы. Едва ли не главной причиной была несовместимость педагогики и молодой жены. Например, сельские учителя, съезжавшиеся в Ясную на своего рода «стажировку» и «обмен опытом», курили в гостиной, а Сонечка, очень скоро сделавшаяся беременной, совсем не выносила дыма.
«Все эти молодые люди, — вспоминала С.А., - очень конфузились моим присутствием, и некоторые смотрели на меня враждебно, чувствуя, что теперь кончится их близкое общение с Львом Николаевичем, который перенесет все свои интересы на семейную жизнь».
Так впервые возник конфликт: для кого существует Толстой? Для семьи или для всех? Первую борьбу Соня выиграла легко, потому что Л.Н. сам в то время тяготился педагогикой, и его новой «любовницей» стало сельское хозяйство: пчелы, свиньи, лошади и винокуренный заводик. Но вопрос был поставлен, а в жизни Л.Н. не было случайностей.
Но что значит «новый человек», о котором он пишет Фету? Это действительно новый Толстой. И в тоже время как бы промежуточный Толстой. Толстой между молодостью и старостью. Толстой между эпохой тотального бегства (из Казани! на Кавказ! в Севастополь! за границу! в самарские степи!), жадными поисками счастья и временем сокрушительного духовного переворота.
Это счастливый Толстой. По сути, это единственный период жизни, когда он был счастлив и когда казалось, что нечего больше желать. Это примерно пятнадцать лет его жизни… Это очень много! Конечно, это не безоблачное счастье. Первый раз он поссорился с женой на пятый день пребывания в Ясной. «Нынче была сцена», — пишет он в дневнике 30 сентября. Были и сцены, и истерики, и тяжелейший конфликт в вопросе о кормлении детей… Но всё же, если сопоставить это время с молодыми терзаниями Толстого и с тем, что он переживал после духовного переворота, то это было счастье, почти рай. И конечно, только в это время могли быть написаны романы «Война и мир» и «Анна Каренина».
Главной движительной силой этих произведений была любовь. Не любовь к людям вообще, не любовь даже к «ближним», а любовь к женщине. Которая, по крайней мере, на время загадочным образом оформила стихийную силу по имени «Толстой». Ввела ее в берега. Надела на его голову свой незримый чепчик, на котором лежал отблеск того венца, что держали над головой Л.Н. в кремлевской церкви.
Первое, что сделала Сонечка как хозяйка Ясной Поляны, — надела на всех поваров белоснежные колпаки. С тех пор «отвратительные паразиты» не появлялись в ее супе. Это был вопрос обычной гигиены. Но и какой поразительно точный символический жест! Потом расчищались дорожки, выдирались с корнем бурьян и крапива, подшивались белые простыни под шелковое одеяло, заменившее ситцевое, надевались наволочки на подушки и на столе во время обеда расставлялись серебряные приборы. Но сначала — колпаки! Во всяком случае, именно их она первыми вспомнила, описывая в «Моей жизни» свои первые шаги хозяйки.
И Толстой, смеявшийся над лакеем в каске с «шишаком», сопровождавшим девочек Берс на прогулках, не только смирился, но был счастлив как никогда…
«Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу — она смотрит на меня и любит. И никто — главное, я — не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: Левочка, — и остановится, — отчего трубы в камине проведены прямо, или лошади не умирают долго и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: что нам делать? Соня, что нам делать? Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновенье ока, у ней и мысль, и слово иногда резкое: оставь, скучно; через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык, люблю, когда я вижу ее голову, запрокинутую назад, и серьезное и испуганное, и детское, и страстное лицо, люблю, когда…»
«Нынче я проснулся, она плачет и целует мне руки. Что? Ты умер во сне… Люблю всё лучше и больше».
«Мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье. Смерть, и всё кончено. Неужели кончено? Бог. Мы молились».
И, наконец, 8 февраля 1863 года в его дневнике появляется запись, которая всё расставляет по местам: «Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня, без сравненья больше, чем я ее. Только не сознательно. Сознательно и я и она бессильны».
Интересно, что незадолго до этого была запись в дневнике самой С.А.: «Иногда мне ужасно хочется высвободиться из-под его влияния, немного тяжелого… Оттого оно тяжело, что я думаю его мыслями, смотрю его взглядами, напрягаюсь, им не сделаюсь, себя потеряю».
Вот и всё.
Надрезы
Но ни одно семейное счастье не может быть полным без ссор, ревностей и примирений. Оба, Л.Н. и С.А., были ревнивы. Толстой приревновал Соню к молодому учителю, она же серьезно ревновала его не только к Аксинье, но и… к своей младшей сестре.
Таня Берс постоянно приезжает в Ясную и вместе с Толстым развлекается охотой. Две сестры бесконечно любят друг друга. Но Соня пишет в дневнике: «Сестра Таня слишком втирается в нашу жизнь». Еще бы… Младшая, в обтягивающей амазонке, грациозная и сексуальная, скачет с ее мужем по лесам и полям, пока старшая, беременная и скучная, сидит дома. Таня становится своего рода «моделью» для Толстого. С нее он в буквальном смысле списывает Наташу для «Войны и мира». А Соня должна всё это по многу раз переписывать. У Тани один несчастный роман за другим — с кузеном Анатолем Шостаком (Анатоль Курагин в романе), с братом Толстого Сергеем Николаевичем (Андрей Болконский), из-за которого она чуть насмерть не отравилась. А у Сони свои «романы» — грудь кровоточит, у детей поносы, повар запил и нужно самой, беременной, жарить гуся… Но при этом Танечка — «несчастная», а Соня — «счастливая». Несправедливо!
«Помню, раз летом, — вспоминала С.А., - собрались все кататься: оседлали лошадей, запрягли экипажи — катки и кабриолет: была тут Ольга Исленьева, сестра Таня и гости какие-то. Вышла и я на крыльцо, робко ожидая распоряжения Льва Николаевича, куда меня посадят, так как всё устраивал он. Но, когда все сели, не спросив даже меня, чего я желаю, Лев Николаевич обратился ко мне и сказал: „Ты, разумеется, дома останешься?“ Я видела, что места больше нет, и, едва сдерживая слезы, я ничего не ответила. Но только что все отъехали, я принялась так горько плакать, как плачут дети; плакала долго, мучительно и не забыла этих слез и до сих пор, хотя с того времени прошло больше сорока лет».
«Никогда не надо никого, ни мужчин, ни женщин, допускать близко в интимную жизнь супругов, это всегда опасно», — напишет С.А. спустя сорок лет.
Но не ревность к Тане и даже к Аксинье стала главной причиной семейных «надрезов». Порой ее муж начинает как бы внутренне ворочаться, чувствует какое-то стеснение, недостаток внешней и внутренней свободы. Хотя какой свободы еще можно желать? Хотел заниматься школой — ~ занимался, надоело — бросил. Увлекся пчелами, целыми днями пропадал на пасеке, а жена кротко носила ему обеды. Захотел какую-то особую породу японских свиней, особый сорт яблонь выписали. Свиньи передохли, зато сад укоренился. Весной чуть ли не каждый день охотится на вальдшнепов; осенью, зимой — выезжает с борзыми за лисами и зайцами. Писательство начинает приносит ощутимый доход. Из гонорара за роман «Война и мир» по десять тысяч рублей подарил племянницам, Лизе и Варе, на приданое. И жена этот щедрый жест поняла и одобрила.
Но тем не менее… «Все условия счастия совпали для меня. Одно часто мне недостает (всё это время) — сознания, что я сделал всё, что должен был, для того чтобы вполне наслаждаться тем, что мне дано, и отдать другим, всему, своим трудом за то, что они дали мне».
Весной 1863 года он начинает писать «Холстомера», поразительную «человеческую» историю о лошади, которую заездили и которая напоследок отдает себя всю, до последнего мосла, до куска кожи, — другим. На самом пике счастья, когда все его условия совпали, он вдруг начинает повесть, которая является апофеозом русского аскетизма, сопоставимого только с «Живыми мощами» Тургенева. Зачем?
Но «Мерин», как тогда называлась повесть, «не пишется». А «Казаки» — пишутся. «Война и мир» — пишется. И «Анна Каренина» будет писаться — и еще как! Он сам как будто несерьезно относился к своему второму роману сам удивлялся, почему он вызвал такой читательский интерес. Да понятно — почему. Потому что люди во всем мире хотят счастья, а не страданий. И за это счастье — хоть под поезд!
Но что-то в этом счастье начинает раздражать Толстого. «Где я, — тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю». Эта запись в дневнике появилась менее чем через год после свадьбы.
Вдруг на пике семейного счастья из-под пера Толстого выходит диалог князя Андрея и Пьера Безухова, где Андрей убеждает Пьера: друг мой, не женитесь! Не женитесь, пока не станете совсем старым и никому не нужным. Вдруг бесконечно счастливый со своей прелестной Кити (это почти Сонечка) Константин Левин в «Анне Карениной» начинает всерьез подумывать о крепкой веревке и надежной перекладине под потолком. И сам его создатель в это время прячет от себя веревки и боится один ходить на охоту с ружьем. Что случилось?
Не в дневниках, а в записных книжках Толстого, в которые он заносил всякую всячину, стоит обратить внимание на его записи, когда он увлекался естественными науками: «Водород падает наверх, т. е. из сферы воздуха стремится в сферу водорода». «Водород» — это Толстой, а «воздух» — это семья. Этим «воздухом» пока прекрасно дышится. Больше того — он не может без него жить. Но какая-то невероятная сила выталкивает и выталкивает его в иное пространство, и сопротивляться ей он не может, потому что принадлежит другой «сфере». Еще более интересны замечания Толстого о естественном тяготении и влиянии друг на друга планет:
«Луна вертится вокруг Земли, потому что легче, и составляет одно из видимых тел, вращающихся вокруг Земли.
Земля вращается с другими планетами вокруг Солнца. Т. е. по мере своей плотности относительно сфер Солнца находит свой путь в одной из сфер. Направление ее определено сферой вращения Солнца, непосредственно соприкасающейся с ее сферой и сферами других планет».
Это и есть «модель» семейной жизни по Толстому. Жена — это Луна, которая вращается вокруг мужа, Земли, вместе с другими малыми спутниками — детьми, подчиненными ее «сфере». Но Земля не самостоятельна и подчинена солнечной «сфере», которая, в свою очередь… и т. д.
Ревность к Аксинье, ревность к сестре… В поздних воспоминаниях жена Толстого слишком акцентирует внимание на этом. Очень серьезным «надрезом» стал вопрос о кормлении первого ребенка — Сережи. У С.А. мучительно болела грудь, не хватало молока, а Л.Н. злился даже на то, что врач (чужой мужчина!) имеет право осматривать грудь его жены. Просто мусульманин какой-то. «Он уходил и уезжал от меня, проводя весело время с моей веселой, здоровой сестрой Таней…»
О том, чтобы бросить кормить ребенка самой и взять кормилицу, по убеждению Л.Н., не могло быть и речи. «Я падаю духом ужасно, — пишет С.А. в дневнике через десять месяцев семейного счастья. — Я машинально ищу поддержки, как ребенок мой ищет груди. Боль меня гнет в три погибели. Лева убийственный». «Боль усилилась, я, как улитка, сжалась, вошла в себя и решилась терпеть до крайности». «Уродство не ходить за своим ребенком; кто же говорит против? Но что делать против физического бессилия?» «Поправить дело я не могу, ходить за мальчиком буду, сделаю всё, что могу, конечно, не для Левы, ему следует зло за зло, которое он мне делает».
Кормилицу всё равно взяли, а «надрез» остался. «Раз он мне высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, которую я помнила всю нашу жизнь и другим часто сообщала. Он сравнивал двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги. Начни сверху их надрывать или надрезать — еще, еще… и две половинки разъединятся совсем».
Что-то не так…
С.А. смотрела на эти «надрезы» со своей женской точки зрения. Л.Н. с его мужским упрямством порой бывал жесток в отношении молодой и неопытной жены. В то же время он сам был неопытен, непоследователен и еще до своего духовного переворота не раз и не два менял «правила игры». «То он стремился к простоте, возил меня в телеге, требовал грубого белья для первого сына. А то, впоследствии, брал с меня честное слово, что я поеду в 1-м классе, а не во 2-м, как я сама того хотела, и возил мне из Москвы чепцы и наряды от М-mе Minangoy — самой дорогой модистки в то время в Москве, и золотистые башмаки от Pinet, то ходила за детьми грязная, русская няня, а то выписывали из-за границы англичанку…»
Через четыре года, когда Соня была в очередной раз беременна, между ними случился конфликт, который ни он, ни она не могли объяснить, «бессмысленный и беспощадный». «Соня рассказывала мне, — пишет Т.А.Кузминская, — что она сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении.) Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:
— Зачем ты сидишь на полу? Встань!
— Сейчас, только уберу всё.
— Я тебе говорю, встань сейчас, — громко закричал он и вышел к себе в кабинет.
Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и возглас:
— Уйди, уйди!
Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко, и страшно — я никогда не видала его таким. Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, всё повторяла: „За что? Что с ним?“
Она рассказала мне уже немного погодя: — Я пошла в кабинет и спросила его: „Левочка, что с тобой?“ — „Уйди, уйди!“ — злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофеем и чашкой и бросил всё на пол. Я схватила его руку. Он рассердился, сорвал со стены термометр и бросил его на пол».
«Это событие вызвало выкидыш…» — пишет С.А. в «Моей жизни».
67-й год, когда это случилось, был критическим в жизни Толстого. Всю зиму он «раздраженно, со слезами и волнением» заканчивает третий том «Войны и мира», испытывая при этом сильнейшие головные боли. В марте в одну ночь сгорели все оранжереи, заведенные дедом Волконским. Л.Н. едва успел вытащить из пожара детей садовника. В марте же умирает жена его лучшего друга — Долли Дьякова. На похоронах в Москве он узнает о нелепой смерти сестры А.А.Толстой Елизаветы Андреевны в Италии — подавилась костью. «Бывает время, когда забудешь про нее — про смерть, а бывает так, как нынешний год, что сидишь со своими дорогими, притаившись, боишься про своих напомнить и с ужасом слышишь, что она ‹то› там, то здесь бестолково и жестоко подрезывает иногда самых лучших и самых нужных», — пишет он А.А.Толстой. Наконец, он сам в этот год становится особенно мнительным на предмет собственного нездоровья. Подозрение, что у него чахотка, заставляет обратиться к московскому врачу Захарьину. Со страхом ждет приговора. Находят лишь камни в желчном пузыре.
В этот год Толстой часто выезжает в Москву: хоронить Долли, устраивать дела с печатанием «Войны и мира» и на обследования к Захарьину.
Во время этих отлучек они переписываются с женой каждый день! В этой переписке 67-го года есть что-то необыкновенно трогательное и… ненормальное, как и во всей переписке Толстого с женой, завершившейся страшной «глухой» перепиской во время его ухода.
«Боюсь не успеть написать тебе завтра, милый Левочка, и потому начинаю свое письмо с вечера, в 11 часов, когда дети спят и когда особенно грустно и одиноко. А завтра тетенька посылает Ивана, и я уже не могу послать его поздно. Утром, во всяком случае, напишу всё ли у нас благополучно. А теперь мы все здоровы, дети, кажется, теперь совсем поправились, боль, которая у меня была утром, тоже прошла, и ничего у нас особенного не случилось. Нынче необыкновенной деятельностью старалась в себе заглушить все мрачные мысли, но чем более старалась, тем упорнее приходили в голову самые грустные мысли. Только когда я сижу и переписываю, то невольно перехожу в мир твоих Денисовых и Nicolas (герои „Войны и мира“. — П.Б.), и это мне особенно приятно. Но переписываю я мало, всё некогда почему-то.
Завтра никак не могу еще иметь письма от тебя и жду этого письма с болезненным нетерпением. Ведь, подумай, я ничего не знаю, кроме лаконического содержания телеграммы, а воображение мое уже замучило меня. Знаешь, целый день хожу как сумасшедшая, ничего не могу есть, ни спать, и только придумываю, что Таня, что Дьяковы, и всё воображаю себе Долли, и грустно, и страшно, да еще, главное: и тебя-то нет, и о тебе всё думаю, что может с тобой случиться. Приезжай скорей».
Ответы Л.Н. дышат не меньшей нежностью и заботой, только, пожалуй, более чувственно-страстными.
«Сижу один в комнате во всем верху (квартиры Берсов. — П.Б.); читал сейчас твое письмо, и не могу тебе описать всю нежность, до слез нежность, которую к тебе чувствую, и не только теперь, но всякую минуту дня. Душенька моя, голубчик, самая лучшая на свете! Ради Бога, не переставай писать мне каждый день до субботы… Без тебя мне не то, что грустно, страшно, хотя и это бывает, но главное — я мертвый, не живой человек. И слишком уж тебя люблю в твоем отсутствии».
Впрочем, как раз эта пылкая страстность мужа не очень нравилась С.А. «Хотя приходит в голову, что причины твоей большей нежности от причин, которые не люблю я; но потом я сейчас же не хочу себе портить радости и утешаюсь и говорю себе: от каких бы то ни было причин, но он меня любит, и слава Богу», — писала она.
Результатом этой страстности были дети, один за другим. С.А. любила детей бесконечно, в уходе за ними и их воспитании проявлялся ее главный жизненный талант. Но постоянное состояние беременности, почти без передышки, начинает ее тяготить, а, кроме того, она скоро обращает внимание, что ее муж ничем не отличается от большинства обыкновенных мужчин: любит жену здоровую, а не больную.
«Из тринадцати детей, которых она родила, — писал сын Толстых Илья Львович, — она одиннадцать выкормила собственной грудью. Из первых тридцати лет замужней жизни она была беременна сто семнадцать месяцев, то есть десять лет, и кормила грудью больше тринадцати лет…»
Но особенно возмущало С.А., что ее муж, отличаясь страстным мужским темпераментом до преклонных лет (последний ребенок, Ванечка, родился в марте 1888 года, незадолго до шестидесятилетия Толстого и сорокачетырехлетия С.А.), при этом подчеркнуто отрицательно относился к половой связи, считая ее греховной и недостойной духовного существа. Удивительно, но это отношение нисколько не изменилось с тех пор, когда он страдал от «чувства оленя» к девкам и крестьянкам. «Но что же делать?» — говорил он жене в таких случаях, давая ей понять, что если он и не властен над «чувством оленя», испытываемого уже по отношению к ней, это еще не значит, что он готов нравственно оправдывать это чувство. Его записи в дневнике вроде: «Преступно спал», — буквально взрывали С.А. Они намекали ей на то, что она не просто является соучастницей этого «преступления», но и его главным провоцирующим мотивом. Но главное — главное! — ее выводило из себя то, что муж не видит принципиальной разницы между ней и теми женщинами, которые были до нее.
Единственным оправданием половой связи Толстой считал рождение детей. «Связь мужа с женою, — пишет он в записной книжке, — не основана на договоре и не на плотском соединении. В плотском соединении есть что-то страшное и кошунственное. В нем нет кощунственного только тогда, когда оно производит плод. Но всё-таки оно страшно, так же страшно, как труп. Оно тайна». И здесь же он пишет о неразрывной, «смертной» связи мужа и жены, указывая, что случаи почти одновременных смертей брата и сестры крайне редки, а вот старых супругов — сколько угодно. И в этом надо почувствовать тонкость отношения Толстого к половой связи. Он видел в ней не только грех, но и тайну, такую же, как смерть. Смерть всегда завораживала Толстого. Он не мог не понимать, что первым звеном в цепочке: рождение — жизнь — смерть является половая связь. Отсюда она путала его. Если результатом половой связи не становится плод — рождение и жизнь, то эта связь означает «труп».
Этой тонкости в отношении мужа к плотской связи С.А. не понимала. Да ей было и не до того. Для нее эта связь означала конкретные вещи: тяжелое состояние беременности, муки родов, грудницу, бессонные ночи, холодность мужа к больной жене и ее ревность к молодым и здоровым женщинам, вроде своей сестры… «Сознаю, что я тогда начинала портиться, делаться более эгоистка, чем была раньше. Спасибо и за то, что, кроме меня, никого не любил Лев Николаевич, и строгая, безукоризненная верность его и чистота по отношению к женщинам была поразительна. Но это в породе Толстых…»
С.А. до поры до времени чувствовала тот предел, до которого она могла понимать своего мужа и после которого ей уже не стоило ломать голову, занимаясь тем, что ей судил Бог: внутренняя жизнь семьи и дети.
Но в этом ее положении тоже была своя тонкость. Толстой ведь не был физиком или астрономом. Он даже не был «литератором» в обычном смысле, который элементарно зарабатывает творчеством на жизнь. Толстой был творцом жизни. Той самой жизни, что свободно и органично перетекала из быта Ясной Поляны в «Войну и мир», «Анну Каренину» и обратно. И она, его жена, была соучастницей этого творческого процесса, причем он сам настоял на этом, придавая женитьбе не только прагматический, но и идеальный, творческий смысл. Как же ей было определить ту грань, за которой кончались ее полномочия и начиналась исключительно его сфера?
Пока этой сферой оставался кабинет мужа, всё было более или менее понятно. То, что кабинет папа — это святилище, а время, когда он пишет или читает, — это самые важные часы, ради которых, собственно, и существует Ясная Поляна, — это жена Толстого не только понимала, но и накрепко внушила детям.
Побеспокоить папа во время работы было немыслимо! Немыслимо было войти в это время в его кабинет, пересечь границу этой «сферы». Но ведь и когда Толстой покидал кабинет, творчество не прекращалось. Он не становился обычным мужем и отцом. Он продолжал оставаться «сферой», но уже такой, которая вступала во взаимодействие со «сферами» его домашних. И как было найти границы?
«Как хорошо всё, что ты оставил мне списывать, — пишет она мужу во время его отъезда. — Как мне нравится княжна Марья! Так ее и видишь. И такой славный, симпатичный характер. Я тебе всё буду критиковать. Князь Андрей, по-моему, всё еще не ясен. Не знаешь, что он за человек Если он умен, то как же он не понимает и не может растолковать себе свои отношения с женой».
«Сижу у тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет…»
«А нравственно меня с некоторого времени очень поднимает твой роман. Как только сяду переписывать, унесусь в какой-то поэтический мир, и даже мне кажется, что это не роман твой так хорош… а я так умна».
«Посылаю тебе, милый Левочка… образок, который, как всегда, везде был с тобой, и потому и теперь пускай будет. Ты хоть и удивишься, что я тебе его посылаю, но мне будет приятно, если ты его возьмешь и сбережешь».
Неясные отношения князя Андрея к жене, образок, который княжна Марья упросила его взять с собой на войну и который он удивленно взял, чтобы сделать ей приятное, — всё это либо перетекало из яснополянской жизни в «Войну и мир», либо возвращалось из романа в жизнь. Это была система кровеносных сосудов, а не жесткое разграничение сфер.
С.А. была деспотична в любви к мужу. Этот ее деспотизм был продолжением ее главной добродетели — самоотверженности. Так она была воспитана отцом и матерью, и непонятно еще, кем больше.
У нее тоже были свои тонкости в понимании отношений супругов, которые ей с детства внушали мать и отец, но которые в идеальном мироустройстве яснополянского рая не работали. В дневнике она пишет: «Иногда на меня находит озлобление, что и не надо, и не люби, если меня не умел любить, а главное, озлобление за то, что за что же я-то так сильно, унизительно и больно люблю. Мама часто хвалится, как ее любит так долго папа. Это не она умела привязать, это он так умел любить. Это особенная способность. Что нужно, чтоб привязать? На это средств нет. Мне внушали, что надо быть честной, надо любить, надо быть хорошей женой и матерью. Это в азбучках написано — и всё это пустяки. Надо не любить, надо быть хитрой, надо быть умной и надо уметь скрывать всё, что есть дурного в характере, потому что без дурного еще не было и не будет людей. А любить, главное, не надо. Что я сделала тем, что так сильно любила, и что я могу сделать теперь своею любовью? Только самой больно и унизительно ужасно. И ему-то это кажется так глупо».
Это дневник того самого 67-го года, который словно пропитан предощущением катастрофы. Но это как будто чувствует одна С.А. Толстой целиком поглощен «Войной и миром» и своей болезнью. Он консультируется с Захарьиным и меряет ногами Бородинское поле в уверенности, что напишет батальную сцену, которая не снилась даже Стендалю, главному авторитету для него среди «баталистов». Но С.А. всё время что-то «чувствует».
Что-то не так… Что-то не так…
Маргиналы
Удивительное дело! Сонечка Берс свои, очевидно, невиннейшие девичьи дневники уничтожила, не показала Толстому. А вот он свои далеко не невинные заметки холостой жизни не просто показал невесте, но заставил прочитать. Зачем?
Ясного объяснения этого поступка мы не найдем ни в его дневниках, ни в «Анне Карениной», где Константин Левин совершает такой же поступок. Но какие-то мотивы лежат на поверхности.
Во-первых, он не был уверен, что он, такой как есть, достоин своей невесты, и хотел, чтобы она знала, что он ее недостоин, и сделала не слепой, а сознательный выбор. Это благородный мотив.
Во-вторых, намереваясь привезти жену и будущую мать их детей в Ясную Поляну, он знал, что там она неизбежно столкнется с Аксиньей и его незаконным сыном. Лучше вскрыть этот нарыв до свадьбы, чем травмировать молодую жену, которая к моменту «приятной новости», возможно, уже будет беременной. Не самый благородный, но и не самый плохой мотив. Да, но зачем было показывать дневник?
Толстой поступил против правил. Это был «дикий» поступок, который ошеломил Сонечку и ее родителей. Но родители списали это на «странности» жениха: о некоторых они уже знали. А вот Сонечке предстояло с этой «правдой» жить.
«…всё то нечистое, что я узнала и прочла в прошлых дневниках Льва Николаевича, никогда не изгладилось из моего сердца и осталось страданием на всю жизнь», — пишет С.А. в «Моей жизни».
«Всё его (мужа. — П.Б.) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним, — жалуется она в дневнике первого года замужества. — Разве когда будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтоб у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту без прошедшего, без гадостей, без всего, что теперь так горько видеть в муже. Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная Бог знает на кого и на что…»
Отдавая Сонечке дневник, Толстой думал, что испытывает на прочность ее чувство и показывает ей «мины», которые могут встретиться ей в Ясной Поляне. На самом деле он закладывал под свою будущую семейную жизнь такой динамит!
Все недостатки С.А. вытекали из ее добродетелей и наоборот. Самоотверженность в семейной жизни соседствовала с деспотизмом, а преданная любовь к мужу — с безоглядной ревностью. Своими дневниками он пробудил в ней темные стороны ее натуры и заставил ее страдать не только от ревности, но и от осознания беспомощности перед темными сторонами своей личности. Если это был духовный урок, то очень жестокий.
Конечно, больше всего ее задели его слова об Аксинье как жене. «Влюблен как никогда!» С.А. всегда придавала особое значение отдельным словам, сказанным или написанным ее мужем. Она вцеплялась в эти слова, надувала их дополнительным, ей одной внятным смыслом. Это была ее болезнь.
«Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности, — пишет она в дневнике через три месяца после свадьбы, увидев Аксинью в своем доме. — „Влюблен как никогда!“ И просто баба, толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко. Пока нет ребенка. И она тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая… Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то бы сделала с удовольствием».
Делая свои молодые дневники прозрачными для жены, он совершал и еще одну ошибку, о которой, несомненно, горько сожалел в старости, перед уходом. Он подарил ей право считать себя «жертвой». Разбудив в ней одну темную сторону — ревность, он дал ей основание и для семейного деспотизма, ибо нет ничего более деспотичного, чем жертвенная любовь. Это чувство «жертвы» она культивировала в себе с самого начала их совместной жизни. Дневники будут «аукаться» Л.Н. на протяжении всех сорока восьми лет их семейных отношений. Этот «скелет в шкафу» постепенно обрастет плотью, напитается кровью и будет постоянно присутствовать в доме во время самых тяжелых конфликтов.
И всё ради чего?
Самое начало семейной жизни Толстых приобретает странный маргинальный характер. Дневник (в сущности, просто написанные слова) вдруг начинает играть в этой жизни роль третьего. Оба ведут дневники, будто соревнуясь друг с другом в своей откровенности. Но главное — оба не просто позволяют друг другу читать эти дневники, но делают это принципиальным элементом полноты семейного счастья. Никаких тайн!
Что же они читают в этих дневниках?
ОНА:
«Он мне гадок со своим народом…»
«У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно — у меня никакой, напротив…»
«Он тем дурной человек, что у него даже нет жалости, которую имеет всякий мало-мальски незлой человек ко всякому страдающему существу…»
«Любви нет, жизни нет…»
«Воротится хорошая погода, воротится здоровье, порядок будет, и радость в хозяйстве, будет ребенок, воротится и физическое наслаждение, — гадко…»
«Иду на жертву к сыну…»
«А детей у него больше не будет…»
«Я брошена. Ни день, ни вечер, ни ночь. Я — удовлетворение, я — нянька, я — привычная мебель, я — женщина».
ОН:
«Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас всё, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал…»
«Мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать… Мне всё досадно и на мою жизнь, и даже на нее. Необходимо работать…»
«Я очень был недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно, и выжидал, и прошло…»
«Таня — чувственность…»
«С утра платье. Она вызывала меня на то, чтоб сказать против, я и был против, я сказал — слезы, пошлые объяснения… Мы замазали кое-как. Я всегда собой недоволен в этих случаях, особенно поцелуями, это ложная замазка… За обедом замазка соскочила, слезы, истерика…»
«Ее характер портится с каждым днем… Я пересмотрел ее дневник — затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности…»
«С утра я прихожу счастливый (после прогулки. — П.Б.), веселый, и вижу графиню, которая гневается и которой девка Душка расчесывает волосики… и я, как ошпаренный, боюсь всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично».
«Уже 1 ночи, а я не могу спать, еще меньше идти спать в ее комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда ее слышат, а теперь спокойно храпит».
Приписки Толстого в дневнике жены, то шутливые, то покаянные, не оставляют сомнения, что он внимательно читал дневник. А уж он и вовсе не имел права прятать дневник после того, как навязал невесте свое прошлое. Сделав свое прошлое ее душевным грузом, он распахнул дверь в тайник своей души и уже не смел ее больше закрывать.
Одним из внешних символов С.А. как хозяйки был не только чепец, но и тяжелая связка ключей от всего дома и хозяйственных пристроек, которую она постоянно носила на поясе, на животе, даже когда была беременной. Но для проникновения в тайник души мужа ей не требовался ключ. Всё открыто.
Но могло ли так продолжаться всю жизнь? Зачем было двум взрослым людям, обедающим за одним столом, ночующим в одной спальне, вести эту странную, двусмысленную «переписку»?
С.А. эта игра понравилась. Во всяком случае, она вошла в ее вкус и всегда требовала от мужа предельной откровенности. Но Толстого отсутствие между ними всякой тайны скоро стало раздражать. Летом 63-го года он восклицает в дневнике: «Всё писанное в этой книжке почти вранье — фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду».
В конце концов дневники, которые по изначальной мысли Толстого должны были соединить супругов в единую и нераздельную духовную плоть, стали одной из главных причин семейного конфликта, завершившегося катастрофой 1910 года…
«Сломилась жизнь»
Так называется одна из глав воспоминаний С.А. Событие, серьезно повлиявшее на отношения между супругами еще до духовного переворота Толстого и ставшее причиной первого не «надреза», а надлома в семейной жизни, было рождение 12 августа 1871 года второй дочери и пятого по счету ребенка — Марии. Это первый ребенок, который впоследствии встанет на стороне отца в конфликте с матерью, обозначив раскол между детьми Толстого. Скончавшаяся в молодом возрасте Мария была во многих отношениях очень необычным и не вполне земным существом, как и самый поздний ребенок — Ванечка. И это была самая любимая дочь Толстого.
После рождения Маши С.А. заболела родовой горячкой и едва не умерла. Врачи советовали ей больше не иметь детей. Но Толстой не представлял себе семейной жизни без рождения детей. После Маши его жена родила восьмерых детей, из которых первые трое — Петр (р. 1872), Николай (р. 1873) и Варя (р. 1875) — умерли в грудном возрасте. И только с рождением сына Андрея в 1877 году, а затем Михаила в 1879-м род Толстых вновь стал набирать силу. Но уже родившийся в 1881 году Алексей умирает в пятилетнем возрасте, а появившийся на свет в 1888-м Ванечка уходит из жизни в 7 лет. Зато родившаяся в 1884 году уже вопреки желанию матери дочь стала главной долгожительницей в роде Толстых. Александра Львовна прожила девяносто пять лет.
В плодоносящей силе Толстого было что-то библейское. И каждый ребенок был не похож на предыдущего и последующего. Каждый обладал неповторимым характером и каким-то даже гипертрофированным личностным началом. Все дети были разносторонне даровиты.
В 1871 году Толстой не вел дневник, но сохранилась запись из его записной книжки, где он осуждает естественные науки за отождествление природных законов с таинством человеческого деторождения: «Естественные науки — это стремление найти общее в жизни внешнего мира с жизнью человека. Человек родится из оплодотворенного яйца. Давай отыскивать яйцо в полипе и оплодотворение в папоротнике…»
Для Толстого деторождение — это таинство, которым нельзя управлять. Но для С.А. это таинство означало более определенные вещи. Вот ее запись в дневнике 1870 года:
«Сегодня 4-й день, как я отняла Левушку (Лев — четвертый ребенок Толстых. — П.Б.). Мне его было жаль почти больше всех других. Я его благословляла, и прощалась с ним, и плакала, и молилась. Это очень тяжело этот первый полный разрыв с своим ребенком. Должно быть, я опять беременна».
Толстой в начале 70-х годов продолжает жить невероятно напряженной умственной жизнью. Возвращается тяга к педагогике, и он составляет «Азбуку» для детей (С.А. ее переписывает). Он изучает греческий язык, чтобы читать Гомера и Ксенофонта в оригинале. Он собирает материалы для романа о Петре I. В 1873 году начинается работа над «Анной Карениной». В это же время Толстой дважды ездит в самарские степи — на кумыс.
Жизнь семьи возвращается в прежнюю колею. Однако «неимоверного счастья» уже нет. В семейной жизни Толстых обозначились все трещины, по которым она будет раскалываться в будущем. Но необходим был какой-то внешний толчок, чтобы раскол начался.
Толчком был переезд семьи в Москву.
В 1871 году когда в семье произошел надлом, Ясную Поляну покинул ее легкокрылый ангел и одновременно демон — Танечка Берс, ежегодно с весны до осени гостившая у старшей сестры. После неудачного и томительного «романа» с братом Толстого Сергеем Николаевичем она всё-таки вышла замуж за своего кузена Кузминского и уехала с ним на Кавказ, куда ее муж получил назначение. Это было большое горе для С.А. Сестра была ее единственной конфиденткой в семейных проблемах, ей она поверяла все свои радости и горести в отношениях с мужем. С отъездом Тани рвалась ее живая и постоянная связь с прежней семьей, с Берсами. Отныне она была только графиней Толстой…
И в это же время Толстой думает о поездке в Оптину. Поездка не состоялась, она случится через шесть лет. Но рассказывая об этом спустя многие годы своему первому биографу Павлу Бирюкову Толстой вдруг сместит в памяти две даты, 1871 и 1877 годы, и расскажет о той первой «поездке» как состоявшейся. Он скажет Бирюкову, что ездил в Оптину говорить со старцем Амвросием о своих семейных проблемах.