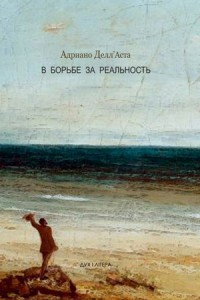Предисловие к книге Адриано Делл’Аста «В борьбе за реальность» (Дух і літера, 2012).
Адриано Делл’Аста принадлежит к самым глубоким иcследователям русской культуры в современной Италии. То русское, чем он занимается, известно итальянскому читателю — да и итальянской славистике — меньше другого (куда меньше, скажем, чем Горький или Маяковский, или авангард ХХ века, или даже новейший постмодернизм): это, в самом общем определении, христианская Россия, Russia cristiana. В этой перспективе Адриано Делл’Аста читает русскую классику и литературу культурного сопротивления ХХ века (М. Булгакова, Б. Пастернака, В. Шаламова, Вас. Гроссмана, А. Солженицына — все они герои книги, которую читатель видит перед собой). Его понимание того, что мы переживаем как христианское в том или другом сочинении, совершенно нетривиально. Оно никак не совпадает с конфессиональными декларациями самого автора (как в случае Шаламова и Гроссмана), не сверяется с доктринальными азами (как в случае М. Булгакова, чье «еретичество» у нас бесконечно обсуждают, или в случае Пастернака, у которого «доктрина» и вообще не лежит на поверхности). Искусство говорит иначе, и Делл’Аста чуток к языку искусства (стоит посмотреть на его замечательные размышления о символе дома у М.Булгакова). Я не встречала в современной отечественной критике, литературной и философской, такого подхода к словесности. Обычно, когда кто-то у нас берется анализировать сочинения в «христианской (православной) перспективе», добра не жди: дело сводится к отыскиванию знакомых тем и мотивов (часто к тому же знакомых критику мало и поверхностно), но никак не существа сообщения. Такое «православное чтение» оказывается, увы, только новым видом чтения идеологического. А именно идеология у Адриано Делл’Аста понята как смертельный враг реальности, враг жизни, видимой и невидимой, — и, тем самым, враг христианской вести о Воскресении, которым «жизнь жительствует».
Об идеологии нам еще придется говорить в связи с последней из трех работ, составивших эту книгу («Возможно ли говорить об искусстве и красоте после Аушвица и Колымы?»). Пока замечу общую вещь. Взгляд со стороны (отнюдь не «гордый взор иноплеменный»: внимательный и любящий взгляд) может открыть нам то, чего мы не видим в собственном наследстве, — или же он может назвать то, что здесь остается неартикулированным. Именно этот взгляд, вопреки Тютчеву, не только «поймет и заметит», но, быть может, и нам разъяснит, «что сквозит и тайно светит» в этой скрытной красоте. За что ее можно любить, чему у нее можно учиться, за что благодарить. Так эта книга Адриано делл’Аста открыла — или прояснила — для меня нечто в русской культуре, чему я не могла бы найти ясного выражения. В связи с тем, как Делл’Аста говорит о своих темах и героях, можно назвать этот дар русской культуры даром реальности. Мы встретим в книге мотивы, без которых не обходится обсуждение особенностей русской духовной культуры — спасающая красота, икона, книгоцентричность, сопротивление рационализму — но все они предстают у Адриано делл’Аста в совершенно неожиданном повороте, поскольку соотносятся с этой центральной для него темой реальности.
Само это понятие — реальность (и неизбежно связанная с реальностью тема ее уязвимости и необходимости ее защиты) — требует огромного комментария, который и представляет собой книга Адриано Делл’Аста. Если начать говорить о ней от противного, то имеется в виду такая реальность, которой угрожают, с одной стороны, отвлеченные и агрессивные по отношению ко всему реальному «идеи» — и, с другой стороны, ее сведение к мертвой и жестокой фактичности, не освещенной никаким смыслом и герметически замкнутой. «Бестиализмом факта» назвал это Борис Пастернак в письме родителям (от 5 марта 1933), которое цитируется в книге, «отрывом от вековой и милостивой традиции, дышавшей превращеньями и предвосхищеньями, а не одними констатациями слепого аффекта». Можно ли сказать и о «бестиализме идей», в жертву которым приносится реальность — или лучше говорить об их «демонизме»? Два извращения реальности — ее идеологическое «упразднение» и ее сведение к «беспощадной фактичности» — в равной мере практиковали две тоталитарные идеологии ХХ века, нацизм и коммунизм. Делл’Аста настаивает на глубочайшем родстве двух этих тоталитаризмов, которое впервые в русской литературе художественно аргументировал Вас. Гроссман. Но еще за двадцать лет до «Жизни и судьбы» в цитированном выше письме об этом уверенно свидетельствует Пастернак: «Это правое и левое крыло одной материалистической ночи». Важно заметить, что, говоря о «материализме», Пастернак имеет в виду вовсе не отрицание бытия Божия, а особое отношение к «здешней» реальности: отказ ей в осмысленности, глубине и тайне.
Как это ни удивительно, но подобным образом дело обстоит и у Достоевского: спор с «материалистами» идет у него не о Творце, но о реальности. В работе, открывающей книгу («Достоевский и Воскресение как ключ русской культуры»), Адриано Делл’Аста замечает: «...проблема Бога у Достоевского состоит не столько в вопросе о Его существовании, которого не отрицают в его сочинениях и атеисты, сколько в вопросе о Божьем мире: его-то атеисты Достоевского отрицают как лишенный смысла, поскольку не могут примириться, например, с бессмысленностью невинного страдания, бессмысленностью, которая, в конечном счете, есть бессмысленность смерти». Силу этого возражения Достоевский чувствует и дает ему выговориться на своих страницах. Богоборцы Достоевского — идеологи. Но те, кто пытается отвечать этому бунту «идейно», при помощи отвлеченных понятий, христианских или гуманистических, не вызывают у Достоевского сочувствия. Никакая «идея», никакая отвлеченная «истина», никакая моральная проповедь не может перевесить, по Достоевскому, реальности страдания и смерти, реальности безобразия и разложения, человеческой ненависти и неспособности прощать. Не может ответить ей и «редуцированное христианство», как Адриано делл’Аста называет «христианство без Христа», сведенное к некоему отвлеченному учению, моралистскому или по-сказочному «утешительному» («детская вера»). Страшной реальности мира по-настоящему может ответить только другая реальность — реальность Воскресения после смерти, уникальное событие Евангелий. Без реальности воплотившегося Христа никакая «идея Христа» ничего не стоит. «Величие и новизна искусства Достоевского не в том, что старым идеям или атеизму он противопоставляет некую новую веру, продуманную при этом в категориях самого атеизма, но в том, что он предлагает конкретный опыт человеческого участия в бесконечном, в жизни, которая сильнее смерти и которая исполнена очарования и беспредельной красоты — при этом в окружении всего зла мира, принятого всерьез». Иначе говоря — реальный опыт участия в смерти и воскресении.
Образ Достоевского — анти-идеолога, как его понимает Адриано Делл’Аста, весьма неожидан. С именем Достоевского привычно связаны «идеи» и «идеологи» («герои-идеологи», по Бахтину) — по этому признаку его обычно и противопоставляют Льву Толстому, у которого «жизнь», «реальность» во всей своей невыразимой прелести и глубине несопоставимо драгоценнее любых идей. Но быть может, тема «идей» и «идеологов» потому так заострена у Достоевского, что именно здесь, в этой точке он предчувствует главную угрозу надвигающихся событий, угрозу, которая исполнилась в идеологических катастрофах ХХ века и на родине Достоевского, и в Европе.
В отличие от «идей» и «фактов» реальность таинственна; она реальна именно в том, что не совпадает с собственной данностью и ей не исчерпывается. Она полна другими возможностями, «превращеньями и предвосхищеньями», словами Пастернака, в ней сквозит другое, бесконечное. Вековая традиция, которая это помнит, не просто милостива: она реалистична.
Реальность таинственна еще и потому, что она не самодостаточна: спасти себя, удерживаться сама собой (моралью, гуманизмом, «традиционными устоями») она не может. В этом Достоевский убежден: катастрофичность мира открыта ему не меньше, чем его богоборцам и бунтарям. Как они, он не верит в паллиативные решения. Но в отличие от них он знает, что удержит этот мир и спасет его не какая-то «идея», даже христианская, а только реальность. Реальность Воскресения — настоящего чуда, последующего за настоящей смертью. Даже «красота, спасающая мир» (эта тема постоянно присутствует в обсуждении Достоевского и вообще русской культуры) подвержена унижению и смерти, и это следует принять. С красотой у Достоевского, говорит Адриано делл’Аста (обсуждая известные эпизоды с картиной Гольбейна в «Идиоте», где безобразие смерти изображено с шокирующим зрителя натурализмом), все совсем не так просто. В красоте Христа страдающего, говорит он, мы имеем дело не с чем-то всесильным, «идеальным» и бессмертным — но с безоружным и смертным. Разрушение образа, разрушение красоты, поругание истины (об этом говорят и православные литургические песнопения Страстей) в этом мире реальны. Реальные страдания, безобразие и смерть преодолевает только Воскресение: для того же, кто не верит в Воскресение, этого не преодолеет ничто. Крестная красота проходит через смерть: смерть, принятую за человека, за мир. Так выглядит «икона» реальности письма Достоевского. Такая мысль о присутствии бесконечного и идеального среди зла мира, полагает Адриано делл’Аста, лежит в глубине русской культуры. «Проблема этой культуры — вопрос о таком духовном идеале... который был бы в силах коснуться самой конкретной и материальной жизни, не отрицая ее и не вычеркивая из нее темные и печальные стороны, не пряча страдания, труда, смерти и их безобразия, но призывая их к истинной жизни... жизни бесконечной, которая в красоте Христа — страждущего и обезображенного ради жертвенной любви, любви вплоть до смерти — победила смерть. Именно это всегда выражала русская культура в эстетической форме иконы».
С особенной глубиной и сочувствием тема «святой реальности» раскрывается во второй, самой обширной в этой книге, работе «Булгаков: реальность и тайна». То, что для Достоевского было пророческим ожиданием, для Михаила Булгакова стало повседневной средой обитания: это называлось «крушением старого мира». По существу же, это было крушение самой реальности. Первый символ этого крушения у Булгакова — лишение дома, «квартирная проблема», на советском языке. Своего, интимного, у человека больше нет, он живет, «как в телефонной трубке». Он, воспитанный идеологическим режимом (который, как и нацистский, превращал всю страну в воспитательный дом), больше не различает реального и нереального. Плоды этого разрушения мы видим в наши дни, когда в попытках определить, что такое homo sovieticus и в чем его специфика, никто у нас еще, кажется, не заметил, что это человек, просто не слыхавший о реальном. Не об идиллическом «старом мире» (Булгаков — никак не ностальгирующий апологет прошлого, и Делл’Аста прекрасно это показывает), но о реальности со всеми ее темными и странными свойствами, несущей в себе, однако, неотчуждаемую свободу, парадоксальность, свою тайну — и красоту, которая без тайны умирает. В недавнем документальном фильме о послереволюционных эмигрантах, живущих во Франции, одна из его героинь, покинувшая Россию девочкой, так передала свои тогдашние впечатления о том, что происходило: «Мы чувствовали, что красота кончилась». Сиротский мир без красоты и тайны, мир советского человека Булгаков никогда не согласился принять как новую форму жизни (это отличало его от многих его ровесников и людей старшего поколения, искавших для нее своего рода эстетического оправдания). Он отвергал этот мир целиком как тотальный кошмар — вероятно, поэтому Ахматова в надгробных стихах ему сказала о его «великолепном презренье»:
Ты так сурово жил и до конца пронес
Великолепное презренье.
Но не презренье к «прекрасному новому миру» и не развенчание его, не сатира на «нового человека» сама по себе — художественная тема Булгакова. Все это составляет фон, очерк того «немыслимого быта», в котором его задача — сохранить если уже не саму реальность (ее, как зеленый абажур киевского дома Турбиных, унесла апокалиптическая буря), то память о ней. Задача сохранить родной языка среди советского новояза, родные книги, родную музыку: они будут помнить не о «прошлом», а о реальном, о настоящем. Ибо окончательное желание силы, захватившей мир, — уничтожить и самую память о реальности, о «возможности жить». Подвигом ответственности перед реальностью называет Делл’Аста этическую и художественную позицию Булгакова. Замечательно его определение человеческой ответственности, как она предстает у Булгакова: «это готовность предоставить себя таинственному действию чего-то другого, действующего внутри тебя; действуя, оно возвращает тебе реальное — не в форме власти над реальностью или обладания ей, но в форме изумления перед ее лицом; в этом смысле, вероятно, можно интерпретировать два факта: во-первых, то, что символы этой реальности (часы, лампа под зеленым абажуром) появляются каждый раз, когда ответственность реально принимается человеком и толкает его к какому-то реальному поступку и, во-вторых, что возвращение покоя (дом), которое отличает это восстановление реального, никак не исключает, а даже подчеркивает „сложный и загадочный“ аспект этой реальности». Неожиданное понимание ответственности! С необыкновенной убедительностью (во всяком случае, для меня) Делл’Аста объясняет неизбежные вторжения потустороннего, «сверхъестественного» в ход действия — так называемую фантастику Булгакова. Прежде всего, у этого есть историческая мотивация: безумный новый мир, в который оказался ввергнут — вместе со всей страной — Булгаков, где даже «природа неестественна», уже не оставляет надежд на какую-то другую помощь, кроме приходящей совершенно извне, сверхъестественной. «Естественные» хранители реальности (честь, достоинство, великодушие, преданность) уже не спасут дела, как они спасали его в пушкинской «Капитанской дочке». И другая, более глубинная мотивация, которую Делл’Аста находит уже в «Записках юного врача». Человек Булгакова, оставленный на себя, беспомощен, как этот неопытный врач; его достоинство в том, чтобы быть открытым для того неожиданного и чудесного, что может прийти и помочь ему, он должен быть готовым стать его орудием, дать ему действовать в себе — и не считать после этого достигнутые результаты собственными. Вообще говоря, это называется смирением: слово как будто странное в связи с блестящим артистическим миром Булгакова. «Единственная разумная и осмысленная вещь — это смиренное признание и благодарность вмешательству иного, которое нас изумляет и своей таинственностью учит тому, что самая плоть реальности — тайна».
Вот здесь для Булгакова и проходит граница «жизни» и «нежизни»: на богословском языке ее можно назвать границей между смирением и гордыней. Обе эти вещи поняты глубоко и нетривиально: в своей реальности, а не в идеологическом истолковании. Не содержание новой идеологии само по себе занимает Булгакова и его героев — оно достойно «великолепного презренья». Есть нечто глубже. Гордыня человека, решившего остаться совершенно одним и создающего «свой новый мир», делает его невменяемым для реальности (и, в конце концов, ведет к небывалому унижению и поруганию, к превращению в лагерную пыль). И напротив: люди, живущие в реальности, у Булгакова (заметим: как и Льва Толстого, и у Чехова, и у Бунина) поступают так или иначе не из абстрактных идей вроде «долга», «верности» — а просто потому, что «иначе нельзя», «как же иначе?». Это форма «правдивой религиозности», к которой русская культура всегда была чрезвычайно чуткой — и вкус к которой почти полностью утрачен после советского «воспитания». Утрата естественности — вот тема Булгакова. Здесь, по Делл’Аста, та глубина, где " и происходит битва Христа и антихриста, на уровне бытия и реальности, где разрушение всего остального (поведения, структур, ценностей, идей) — только последствие и эпифеномен разрушения более сущностного... оно касается реальности, бытия и их строя, вытесненных претензиями человека стать, при помощи собственных идей и теорий, творцом и распорядителем бытия«.
Понимание идеологии, при котором ее конкретное «идейное» содержание — не предмет первой важности, позволяет Делл’Аста употребить рядом, в одном перечислении Аушвиц и Колыму (третья работа книги: «Возможно ли говорить об искусстве и красоте после Аушвица и Колымы?»): иначе говоря, уравнять нацистский и коммунистический тоталитаризм. И на Западе, и в России до сих пор такое сближение остается для многих шокирующим и скандальным. Возможно, и сам Т.Адорно, поставивший знаменитый вопрос о возможности поэзии после Аушвица, удивился бы такому продолжению. О возможности искусства после Колымы (или после ГУЛага) до сих пор в мире не спрашивают; об этом говорят вернувшиеся из лагерей, как Варлаам Шаламов, но такой общегуманитарной проблемы до сих пор нет. Быть может, потому, что и мы в России, и западный мир еще не живет после Колымы: после ее решительного осмысления. В лучшем случае, «на международном уровне» соглашаются говорить о сопоставимости «нацизма» и «сталинизма» (предполагая, что сталинизм исказил изначально добрую идею всеобщего счастья). Позиция Делл’Аста бескомпромиссна. «В действительности, память о том, что идея, которую считают хорошей (коммунизм), произвела миллионы убитых, вовсе не заставляет забыть о тех миллионах убитых, которые произвела идея, которую принято считать дурной (нацизм); проблема не в сопоставлениях такого типа; проблема в том, что вообще существуют такие идеи, которые производят и оправдывают убийство миллионов и что существуют люди (как, к примеру, историк E. Hobsbawm), которые, говоря о коммунистической мечте, осуждают гекатомбы, которые она принесла, только потому, что эта мечта не исполнилась, и затем на прямой вопрос „а если бы солнце будущего все-таки взошло, тогда была бы оправдана смерть пятнадцати, двадцати миллионов?“ отвечают положительно». Таких людей в нашей стране, боюсь, больше, чем можно себе вообразить. Вероятно, если солнце «светлого будущего» и не взошло в реальности, то до захода его в уме людей еще очень далеко. По моим наблюдениям, разница между российским и западным замешательством перед реальным социализмом состоит в том, что в Европе в числе апологетов коммунистического прошлого трудно представить себе верующего человека, «практикующего» христианина. В России же, увы, дело обстоит не так. И другой, исключительно российский современный феномен, тоже говорящий что-то о двух этих «крыльях»: беспроблемное соединение нацизма и коммунизма в политических движениях типа «национал-большевиков» или «красно-коричневых».
То, что объединяло две эти системы, это не содержание их идей — вслед за Гроссманом говорит Делл’Аста — а некий новый, особый яд, который несет в себе любая тотальная идея, стремящаяся целиком заместить собой реальность. Эта идея (классовая или расовая) заставляет видеть на месте того, кто назначен врагом (или возможным врагом) системы, не человека, а «кулака» или «шпиона» в СССР, «еврея» в Германии: существо, истребление которого не составляет проблемы. Умение видеть вещи таким образом, не различать реальности и фикции, не допускать до сознания того, что он непосредственно воспринимает, и отличает образцового («сознательного») гражданина тоталитарного государства. То, что от него требуется, это отнюдь не «горячая вера» в «истинное учение» партии (такая вера опасна: партия круто меняет свои учения и в таком случае фанатику трудно будет «колебаться вместе с линией партии», как это выразил акад. В.В. Виноградов на обсуждении его «буржуазных лингвистических теорий»). Равнодушие к очевидной истине, полное отчуждение от реальности, в том числе, от реальности собственного «я» — вот задача «воспитания» нового человека и «исправления» старого. Лучшей школой такого «воспитания» были лагеря (задуманные, напоминает Солженицын, как лагеря истребления: «воспитание» в конце концов и сводилось к истреблению — если не физическому, то истреблению человеческого в человеке). И, как показывают и итальянские, и русские авторы, писавшие о лагерях (их свидетельства сопоставляет Делл’Аста), «школа» трудовых лагерей дала парадоксальные результаты: человеческое гибло в палачах — и часто воскресало в жертвах, поднимая их над тем уровнем душевной жизни, который им был известен до заключения. Самые яркие свидетельства такого духовного воскресения в застенках принес А. Солженицын. И в его свидетельствах Делл’Аста видит то же утверждение таинственной реальности, которая не исчерпывается собственной данностью и которая жива обращенностью к другому. К тому, что вводит человека в воскресшее бытие, дает ему встретить внутри себя эту частицу иного, божественного. У таких людей свободу уже нельзя было отнять. Реальность вторжения этой тайны, действующей вопреки всем очевидному (предшествующему идейному воспитанию, невежеству относительно всего «духовного», обстоятельствам крайней несвободы и поднадзорности), в лагерной обстановке приобретает библейский масштаб: Богу все возможно. И это реальность тайны.
Вопрос о невозможности искусства (большого, или классического искусства —ведь об «актуальном искусстве» никто не спрашивает! — а заодно и большой мысли, и красоты, и многих других вещей, в которых более всего проявлялось достоинство человека) после Аушвица, после катастроф ХХ века, остается вопросом нашей цивилизации. Делл’Аста обсуждает, по существу, одну сторону этого вопроса: возможно ли искусство о лагерях, не оскорбительно ли оно в отношении того адского опыта, который пережил там человек? На такой вопрос уже ответили — самим фактом своего создания — проза Примо Леви, А. Солженицына, Варлаама Шаламова и других. Ответила (добавим) поэзия Пауля Целана и Нелли Закс на немецком языке, Анны Барковой и Н.Заболоцкого на русском. Однако вопрос этот ставится шире: речь идет об искусстве вообще, искусстве последующих за Аушвицем поколений. Здесь, по мнению многих интеллектуалов, наступил слом или смерть классической культуры. Больше мы такого не можем и не смеем надеяться сделать. Делл’Аста, заметив в рассуждениях о невозможности или непристойности ничего серьезного и высокого после того, что случилось, постоянный мотив страха перед образом (а образ и есть основа языка искусства), находит для этого настроения интересное истолкование: «новое иконоборчество». Иконоборчество, по существу, отрицает ту тайну реальности, о которой говорит книга: проницаемость реального мира для бесконечного, божественного, возможность прямого контакта реального человека с реальной тайной. Этот момент реальности делает возможным обнаружение образа, иконы в том, что нас окружает. «Тьма материализма», о которой в 1933 году писал Пастернак, располагает, видимо, не только «двумя крыльями» двух тоталитаризмов минувшего века. Крыльев (или не знаю, каких частей) у этой тьмы, как показали последние десятилетия, больше. И самым заметным из них теперь стало крыло крайнего тотального скепсиса (реакции на «великие идеи» недавнего прошлого), равнодушного отчаяния в смысле реальности. Оно так же сметает и отменяет реальность, как его предшественники, и так же враждебно творчеству, не выдвигая при этом никаких содержательных идейных программ и не строя воспитательных лагерей. «Новый тоталитаризм», не насильственный и не декларативный, о котором говорят пока немногие, разлучает человека с тайной реальности и реальностью тайны не меньше, чем его «пафосные» старшие братья. Этот разговор уже выводит нас за рамки книги Адриано Делл’Аста: но книга прямо подводит к этой теме.