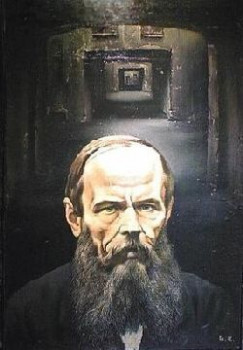Ф.М. Достоевский в своих романах описывает не столько эмпирические события и состояния человека, сколько, прежде всего, события духовные, диалектику духовных реальностей: «Меня зовут психологом, неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть я изображаю все глубины души человеческой».
Н.А. Бердяев первым осознал духовидчество Достоевского: «Его творчество есть знание, наука о духе… Романы Достоевского — на настоящие романы, это трагедии, но и трагедии особого рода. Это внутренняя трагедия единой человеческой судьбы, единого человеческого духа, раскрывающегося лишь с разных сторон в различные моменты своего пути… Он весь в динамике духа… Достоевский — великий революционер духа. Он весь направлен против окостенения духа… Достоевский знает о совершающейся революции, которая всегда начинается в духовной подпочве. Он прозревает её пути её плоды… Достоевский пребывает в духовном и оттуда усё узнаёт… Достоевский воспринимает жизнь из человеческого духа… Поэтому Достоевский видит революцию, совершающуюся в глубине человеческого духа… Достоевский на своём знании человеческого духа основывает свои предвидения… Искусство Достоевского всё — о глубочайшей духовной действительности, о метафизической реальности, оно менее всего занято эмпирическим бытом… Не реальность эмпирического, внешнего быта, жизненного уклада, не реальность почвенных типов реальны у Достоевского…Реальна у него духовная глубина человека, реальна судьба человеческого духа. Реально отношение человека и Бога, человека и дьявола, реальны у него идеи, которыми живёт человек… Он не психолог, он — пневматолог и метафизик-символист… Если и можно назвать Достоевского реалистом, то реалистом мистическим».
Достоевский — один из зачинателей персоналистического образа мысли в русской культуре, он по идейным и творческим установкам персоналист, как и большинство русских философов ХХ века. «У Достоевского было исступлённое чувство личности. Всё его мировоззрение проникнуто персонализмом» (Н.А. Бердяев). Его интересует, прежде всего, то индивидуальное, в котором раскрывается универсальное содержание. «Все сложные столкновения и взаимоотношения людей обнаруживают не объективно-предметную, „реальную“ действительность, а внутреннюю жизнь, внутреннюю судьбу людей. В этих столкновениях и взаимоотношениях людей разрешается загадка о человеке, о его пути, выражается мировая „идея“…Человек ещё более становится в центре его творчества, и судьба человека — исключительный предмет его интереса» (Н.А. Бердяев). Но Достоевский описывает не природного человека гуманизма, а задаёт совершенно иное измерение. «Человек берётся не в плоскостном измерении гуманизма, а в измерении глубины, во вновь раскрывающемся духовном мире… Боль о страдальческой судьбе человека и судьбе мира достигает белого каления… Художественная наука и научное художество Достоевского исследует человеческую природ в её бездонности и безграничности, вскрывает последние, подпочвенные её слои. Достоевский подвергает человека духовному эксперименту, ставит его в исключительны условия, срывает все внешние напластования, отрывая человека от всех бытовых устоев» (Н.А. Бердяев).
«Все идеи Достоевского связаны с судьбой человека, с судьбой мира, с судьбой Бога» (Н.А. Бердяев). Это духовный, христианский персонализм. Но писатель не рисует статичное благолепие человеческой личности, а вскрывает бездну богооставленности, своеволие богоборчества, ведущего к самоуничтожению… «Достоевский завлекает в тёмную бездну, разверзающуюся внутри человека. Он ведёт через тьму кромешную. Но и в этой тьме должен воссиять свет. Он хочет добыть свет во тьме. Достоевский берёт человека отпущенным на свободу, вышедшим из-под закона, впавшим из космического порядка и исследует судьбу его на свободе, открывает неотвратимые результаты путей свободы. Достоевского прежде всего интересует судьба человека в свободе, переходящей в своеволие. Вот где обнаруживается человеческая природа. Подзаконное существование человека на твёрдой земной почве не раскрывает тайн человеческой природы. Достоевский особенно заинтересовывается судьбой человека в тот момент, когда он восстал против объективного миропорядка, оторвался от природы, от органических корней и объявил своеволие. Отщепенец от природной, органической жизни ввергается Достоевским в чистилище и ад города, и там проходит он свой путь страдания, искупает вину свою… Всё творчество Достоевского есть предстательство о человеке и его судьбе, доведённое до богоборства, но разрешающееся вручением судьбы человека Богочеловеку — Христу» (Н.А. Бердяев).
Герои Достоевского являют индивидуальные характеры, вместе с тем воплощают некие идеи в их предельном выражении — «Достоевский стал великим художником идеи» (М.М. Бахтин). «Идеи играют огромную, центральную роль в творчестве Достоевского. И гениальная, идейная диалектика занимает не меньшее место у Достоевского, чем его необычайная психология, идейная диалектика есть особый род его художества. Он художеством своим проникает в первоосновы жизни идей, и жизнь идей пронизывает его художество. Идеи живут у него органической жизнью, имеют свою неотвратимую жизненную судьбу. Эта жизнь идей — динамическая жизнь, в ней нет ничего статического, нет остановки и окостенения. И Достоевский исследует динамические процессы в жизни идей. В творчестве его поднимается огненный вихрь идей. Жизнь идей протекает в раскалённей, огненной атмосфере, — охлаждённых идей у Достоевского нет, и он ими не интересуется… Всё в нём огненно и динамично, всё в движении, в противоречиях и борьбе. Идеи у Достоевского — не застывшие, статические категории, это огненные токи… Идеи определяют судьбу. Идеи Достоевского глубоко онтологичны, бытийственны, энергитичны и динамичны. В идее сосредоточена и скрыта разрушительная энергия динамита. И Достоевский показывает, как взрывы идей разрушают и несут гибель. Но в идее же сосредоточена и скрыта воскрешающая и возрождающая энергия. Мир идей у Достоевского совсем особый, небывало оригинальный мир, очень отличный от мира идей Платона. Идеи Достоевского — не прообразы бытия, не первичные сущности и, уж конечно, не нормы, а судьбы бытия, первичные огненные энергии. Но не менее Платона признавал он определяющее значение идей. И вопреки модернистической моде, склонной отрицать самостоятельное значение идей и заподозривать их ценность в каждом писателе, к Достоевскому нельзя подойти, нельзя понять его, не углубившись в его богатый и своеобразный мир идей. Творчество Достоевского есть настоящее пиршество идей» (Н.А. Бердяев).
У Достоевского идеи не абстрактные и рационалистические, а экзистенциальные, идеи-индивидуумы, способные воплощаться, своего рода живые духовные существа с собственной волей, своим индивидуальным обликом. Такого рода сочетание своеобразного идеализма и персонализма создаёт уникальный облик персонажей. Герой Достоевского — это одержимый идеей, «человек идеи» (М.М. Бахтин), но, вместе с тем, и идея-человек — выражение определённой идеи. Поэтому его герои одновременно искусственны и жизненны, предельно фантастичны и предельно реальны. Они пребывают в неестественной и нередко сверхъестественной ситуации, в необычном состоянии, надрыве, надломе, невероятной напряжённости переживаний и действий, когда многое кажется необусловленным, самопроизвольным, непредвиденным и непредсказуемым, алогичным. С точки зрения обыденного сознания так не поступают, так не говорят живые люди. Но в персонажах, которые с обыденной точки зрения представляются преступниками и сумасшедшими, описывается напряженная борьба идей. При всей своей необычности и неправдоподобности герои Достоевского психологически достоверны. Эмпирическая искусственность и нарочитость их действий в духовном плане оказывается адекватной и последовательной.
«Это пророческое художество. Он раскрывает человеческую природу, исследует её не в устойчивой середине, не в бытовой, обыденной жизни, не в нормальных и нормированных формах её существования, а в подсознательном, в безумии и преступлении. В безумии, а не в здоровье, в преступлении, а не в подзаконности, в подсознательной, ночной стихии, а не дневном быте, не в свете сознательно организованной души раскрывается глубина человеческой природы, исследуются её пределы и границы» (Н.А. Бердяев).
Образы Достоевского оправданы с точки зрения психологии экстремальной ситуации, из которой почти не выходят его герои. В состояниях крайнего духовного напряжения с ними происходят невероятные для обыденной жизни события: сверхъестественные догадки, узнавание чужих мыслей, провидения, совершение неожиданных, немотивированных поступков. В произведениях Достоевского господствует пограничная или предпограничная ситуация (переживание глубочайших потрясений: страха, страданий, борьбы, смерти; состояния в которых человек познаёт себя как нечто безусловное). Подобную напряженность смыслов и аффектов трудно вынести, и многих отталкивает невероятная духовная энергия его произведений и видимая уродливость персонажей и действий. Многим кажется, что Достоевский описывает душевную патологию, либо какую-то фантасмагорию, не имеющую отношения к реальной жизни. Достоевский говорил о реалистичности своих произведений: «Меня многие критики укоряли, что я вообще в романах моих беру будто бы не те темы, не реальные и проч. Я, напротив, не знаю ничего реальнее именно этих вот тем». Он имел в виду другую реальность — не обыденную, а глубинную реальность духа. «Новая действительность, творимая гениальным художником, реальна, потому что вскрывает самую сущность бытия, но не реалистична, потому что нашей действительности не производит. Быть может, из всех мировых писателей Достоевский обладал самым необычным видением мира и самым могущественным даром воплощения» (К.В. Мочульский).
К образам Достоевского можно применить его формулировку, высказанную по близкому поводу: «Конечно, они абсурдны в обыденном смысле, но в смысле ином, внутреннем, кажется, справедливы». Это изображение не эмпирических лиц и событий, а душевных состояний и процессов. Внутренняя жизнь человека спонтанна, клочковата, алогична, хотя на уровне сознания выглядит логичной. Интенсивная душевная жизнь — это борьба противоречивых сил, постоянный надрыв и раскол. В сильном характере какая-либо идея может захватить воображение, подчинить душевную жизнь, лишить её разнообразия, и перед нами человек идеи или идея-человек. Герои Достоевского олицетворяют собой внутренние силы, которые мы порождаем в своей душе и которые способны поработить нас. В той степени, в какой мы проявляем себя как существа свободные, творческие, как личности, мы созидаем образы истинного, прекрасного и благого бытия. Отдаваясь своеволию, произволу, эгоизму, самостным инстинктам, стихиям зла, мы плодим ложные идеи и злые силы. Борьба добрых и злых мотивов порождает конфликт внутренней жизни, трагическую коллизию — столкновение противоположных стремлений, интересов.
Итак, поле действия индивидуальных духовных сущностей Достоевского — душа человека. «В мире дьявол с Богом борется, и поле битвы — сердца людей» — это высказывание Достоевского выражает интенцию его творчества. Поэтому чувство эстетического равновесия и критерий художественной завершенности образа у писателя во многом мотивированы этически. В поисках, развитии, дифференциации и собирании художественных образов участвует его нравственно-религиозное чувство. В литературной форме, как наиболее адекватной его образу мысли, Достоевский пытается обдумать, понять и решить собственные метафизические проблемы. Это придает неповторимое своеобразие его поэтике — системе художественных средств. Её нельзя понять и оправдать только эстетически. В творчестве Достоевский пытается решить главные, наиболее мучительные и скрытые вопросы бытия человека. На этом он сосредоточивает свои силы. Отсюда напряженность, эксцентричность чувств и отношений его героев. То, что не входит в его основной интерес, удостаивается мимолетной зарисовки и поэтому производит впечатление искусственности.
До сих пор не прекращается дискуссия: полифонично или монологично творчество Достоевского.[1] У него диалектически сочетается и то, и другое. Это — полифония, поскольку в романах Достоевского явное многоголосье оппонирующих и взаимоисключающих позиций и идей. Писатель видел изначальную конфликтность душевной жизни человека, расколотость, противоречивость его сознания и чувств. Но это и монологичность, поскольку всё происходит в рамках единой души человека, представляющей собой поле битвы мирового добра и зла. В романах Достоевского один главный герой, вбирающий в себя большинство образов остальных. Монологизм его творчества сказывается и в том, что он утверждает метафизическое единство личности как целеполагаемую норму. Главное же — творчество Достоевского является проекцией разрешения им самим бытийных проблем. Его персонажами движет и их объединяет обязательный изначальный вопрос и творческая проблема самого писателя. Итак, многие голоса в своём соединении выражают автора: творчество Достоевского более всего симфонично — представляет собой соединение, сочетание множества противоречивых состояний, идей.
Как у всех великих русских писателей, начиная с Пушкина, литературный труд для Достоевского был одновременно и самотворчеством, созиданием нового облика личности и нового образа жизни. Нить мучительной судьбы Достоевского вплетена в ткань его произведений. «Все герои Достоевского — он сам, его собственный путь, различные стороны его существа, его муки, его вопрошания, его страдальческий опыт… В творчестве его отразились все противоречия его духа, все бездонные его глубины. Творчество не было для него, как для многих, прикрытием того, что совершалось в глубине. Он ничего не утаил, и потому ему удалось сделать изумительные открытия о человеке. В судьбе своих героев он рассказывает о своей судьбе, в и сомнениях — о своих сомнениях, в их раздвоениях — о своих раздвоениях, в их преступном опыте — о тайных преступлениях своего духа… Ему удалось до глубины поведать в своём творчестве о собственной судьбе, которая есть вместе с тем мировая судьба человека» (Н.А. Бердяев). В творениях своих он пытался понять и разрешить мучающие его вопросы жизни. Его творчество экзистенциально, прежде всего, в том, что укоренено и охвачено единством экзистенции самого автора.
Таков путь осознания Достоевским действительности: личное переживание воплощается в художественной форме и затем осознается вполне. В художественном образе он погружается в метафизическую глубину проблемы, исследует её диалектическое содержание и после этого формулирует впрямую. Это не чисто литературные занятия, не игра фантазии, мало отражающиеся на облике и судьбе автора, а тип жизни. Достоевский не мог не писать романов, прежде всего, потому, что разрешал в них проблемы собственного бытия. Отсюда потребность миссионерства — распространения своих взглядов, отсюда же и профетичность — чувство пророческой значимости своих высказываний. Не может писатель, творящий в сугубо литературных традициях и ассоциациях, проникнуться пафосом обладания целостной истиной, спасительной для человечества. Вместе с тем Достоевскому не были чужды и формальные эстетические поиски, он был в гуще литературной жизни и живо реагировал на неё. Но литературный процесс не был для него самодостаточным, а служил материей, в которой он мог наиболее адекватно воплотить своё видение мировых проблем. Итак, по своим задачам творчество Достоевского экзистенцально-монологично.
Иного плана вопрос: где и насколько текст произведений представляет собой монолог автора? Достоевский — это не литератор, описывающий обыденную жизнь, а духовидец, переживший трагичность бытия, изображающий то, что мучает его душу. Он был личностью титанической и сложной, раздираемой противоречиями, но ищущей гармонии. В письме к А. Майкову Достоевский признавался: «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всём до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». Ему, как подлинно гениальному человеку, были ведомы состояния и напряженного духовного подъема, и падения, было открыто как высокое, так и низменное. Его душа побывала и на небесах, и в преисподней. Этот трагический духовный опыт и воплощался в образах героев Достоевского. Поэтому на вопрос: устами кого из героев говорит Достоевский, — можно ответить: каждого в отдельности и всех вместе. Но на другой вопрос: с каким героем идентифицируется позиция автора, — ответить однозначно трудно. Тот или иной герой, порой совершенно неожиданный, может высказывать заветные мысли Достоевского.
Но наиболее близок мировоззрению автора тот анонимный герой, который может иметь персональный образ, но поле души которого шире этой конкретной персоны и вбирает свойства других героев. По аналогии с понятием «лирический герой» в поэзии можно сказать, что в романах Достоевского проживает жизнь некий метафизический герой — воплощение бывших заблуждений, настоящих страданий и поисков, тяги к гармонии самого автора. Метафизический герой может персонифицироваться в одном действующем лице, но оно не является полным его выражением. В этом случае большинство персонажей охвачено горизонтом души метафизического героя и тяготеет к явному центру её — главному герою.
Роман «Преступление и наказание» потому и производит наиболее целостное впечатление, что его главный герой Раскольников является и метафизическим героем. В других романах образ метафизического героя распылён. Раскольников же является не только главным, но в определённом смысле единственным действующим лицом романа. Все остальные — проекции определённых состояний души Раскольникова. Поскольку автора в первую очередь интересуют динамика и итог душевных превращений, то они изображаются в предельном состоянии. Большинство героев романа представляет собой крайнее выражение и персонификацию идей или чувств Раскольникова. Некоторые герои олицетворяют собой определенные объективные начала: положительные (Соня) либо отрицательные (старуха), воздействующие на Раскольникова как извне, так и через его рассудок или сердце.
Главная проблема творчества Достоевского — природа и происхождение зла в человеке, одержимость духами зла. Достоевский описывает столкновение добра и зла в судьбе и душе человека. Поэтому его романы изображают более метафизические, чем эмпирические реалии. Наиболее идеологический роман «Бесы» в этом измерении оказывается наиболее полемически-эмпирическим произведением зрелого периода творчества писателя. Так как в нём проблемы выражаются в социальных, психологических и бытовых проекциях, то описание выглядит наиболее приближенным к реальной жизни. Отсюда наличие, более чем где-либо, конкретных исторических событий и фактов, злободневность и актуальность романа. Вместе с тем, в «Бесах» духи зла выступают как обнажённые, абстрактные, хотя носителями их могут быть конкретные персонажи, — отсюда некоторая рационалистичность «Бесов». Достоевскому было необходимо высказаться в такой форме, чтобы самому сполна осознать вопрос, сформулировать некоторые актуальные проблемы и быть при этом услышанным современниками. В «Бесах» писатель напрямую высказал то, что пережито и опознано им в «Преступлении и наказании». Это в свою очередь было подготовкой для непосредственной проповеди в «Дневнике писателя». В романе же «Преступление и наказание» Достоевский рассматривает проблему зла на уровне метафизической психологии. Здесь его образы приобретают наибольшую художественную пронзительность и ёмкость. Они персоналистически полнее, чем в «Бесах». «Преступление и наказание» является наиболее целостным и законченным произведением Достоевского — и в духовной проблематике, и эстетически. В последующих произведениях писатель углублял и детализировал смыслы, которые были выявлены в романе «Преступление и наказание».
Основные вопросы темы зла в романе:
- При каких обстоятельствах и в каких состояниях человек одержим духами зла? Какова феноменология — формы явления зла? Это проблема преступления.
- Что происходит с душой человека, породившего злую идею и поработившегося ею? Как злые духи актуализируются — становятся действительными, существуют и проявляются в жизни, какова их сущность в предельном выражении? Это проблема наказания.
- Каков путь изживания зла и духовного оздоровления? Это проблема искупления и воскресения.
Обстоятельства и состояния человека, одержимого духами зла, раскрывает фабула — сюжетная основа, расстановка лиц и событий романа. Раскольников вырос в здоровой семье с традиционным укладом, среди любимых и любящих его людей. Но вне семьи он оказывается выпавшим из органичного жизненного уклада. Его внутренний облик формируется вне традиций и преданий, которые могли бы взрастить здоровые начала души. Во взрослой жизни у Раскольникова оказались оборванными связи с тем, что Достоевский называет землёю, почвой. Новой же почвы он обрести не смог: оказавшись за пределами традиционной культуры, душа его не смогла привиться к чуждой искусственной цивилизации, которая, по Достоевскому, противостоит органике земли. Раскольников не мог найти себя ни в рационализированной, секуляризированной — обмирщенной, отторгнутой от религиозных основ учёности, ни в выхолащивающих душу профессиональных занятиях, ни в карьере, возможности для которой мог предоставить Петербург («Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься»). Достоевский писал Каткову, по каким причинам его герой приходит к преступлению: «По легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе». Неокрепшая душа вне здорового жизненного уклада попадает в заражённую духовную атмосферу.
Это трагедия не только личная: «Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое». Достоевский показывает, что в России рушатся традиционные жизненные основы, разрываются органичные связи между людьми, наступает эпоха безукладья: «У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет». Россия, как и герой романа, только вышла из отрочества, ещё не успели сформироваться положительные основы жизни, но уже началась полоса разрушения: «Нет оснований нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение и всё прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренне, нравственно» (из черновиков к роману «Подросток»). Творчество Достоевского есть «изображение крайнего богохульства и зёрна идеи разрушения нашего времени в России, в среде оторвавшейся от действительности молодежи» (из письма к К.П. Победоносцеву).
Разрушающаяся почва заражается носящимися в воздухе ложными идеями. «Не во что верить, не на чем остановиться», — записано в черновых набросках к роману. В образованном обществе утверждалась эгоистическая индивидуалистическая этика, отрицающая национально-исторические и православные традиции. Раскольников соблазняется формой утилитарной морали, утверждающей, что целью человеческих поступков должна быть только личное благополучие, что поведение человека обусловливается разумной пользой. Преступление Раскольникова, считает Достоевский, есть «доведенная до последствий теория разумного эгоизма». В начале формирования господствующей в будущем атеистической материалистической идеологии Достоевский понимает, что торжество так называемого экономического принципа приводит не к всеобщему благоденствию, а к взаимному истреблению.
Известно, что на первоначальные замыслы романа оказывала влияние полемика Достоевского с социалистами. Но затем писатель погружается в исследование метафизических коллизий в душе своего героя. Ибо человек есть создатель ложных идей и, чтобы понять и объяснить их появление, нужно углубиться, прежде всего, в его душу. Как истинный персоналист, Достоевский обращается к началам мирового бытия: в глубине индивидуального личного бытия вскрываются всеобщие закономерности.
В произведениях Ф.М. Достоевского «Всё сконцентрировано и сгущено вокруг человека, оторвавшегося от божественных первооснов. Всё внешнее, — город и его особая атмосфера, комнаты и их уродливая обстановка, трактиры, с их вонью и грязью, внешние фабулы романа — всё это лишь знаки, символы внутреннего, духовного человеческого мира, лишь отображения внутренней человеческой судьбы» (Н.А. Бердяев).
Петербург у Достоевского — это столица современной цивилизации, место концентрации ложных идей, носящихся в воздухе, воплощение искусственности, неорганичности, нездоровья и распада жизни: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина». Образ Петербурга рисуется с помощью мертвенных, ужасающих деталей, но в целом он крайне призрачен. Это некая ирреальность, наполненная тенями и призраками, какая-то фантасмагория — причудливое нереальное видение, провоцирующее болезненное душевное состояние. В «Подростке» Достоевский писал о пушкинском Германне — духовном брате Раскольникова: «В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из „Пиковой дамы“ (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода), мне кажется, должна ещё более укрепиться». Описанный Достоевским город отображает внутренний мир Раскольникова: и атмосфера, и пейзаж города, и детали его быта являются отражением душевных состояний героя. «Город — трагическая судьба человека. Город Петербург… есть призрак, порождённый человеком в его отщепенстве и скитальчестве. В атмосфере туманов этого призрачного города зарождаются безумные мысли, созревают замыслы преступлений, в которых преступаются границы человеческой природы» (Н.А. Бердяев). Горизонты души Раскольникова и души цивилизованного Петербурга почти сливаются. Так очерчивается духовное поле, в котором происходят духовные в своей сути события романа.
Душа метафизического героя находится в нездоровом, горячечном состоянии. «…Чрезвычайно жаркое время…», «…жара стояла страшная…», — неоднократно напоминает автор об удушающей атмосфере города и внутреннего состояния метафизического героя. «С некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию» — угнетённое состояние, нездоровая мнительность, навязчивые идеи, сопровождающиеся болезненными ощущениями, в частности жаром. Всё это погружает душу в беспросветный мрак. Выпадение из традиционного жизненного уклада приводит к самоизоляции и внутреннему опустошению: «…углубился в себя и уединился от всех… Он решительно ушёл от всех, как черепаха в свою скорлупу…» — Не только от всех людей, но от всего вообще, от нравственного и разумного.
Герой оказывается в духовной пустоте, сознание его погружается в «подполье». Скорлупа-жилище — образ его душевного пространства: «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими жёлтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок». Душа Раскольникова неестественно зажата некоей властной силой, она олицетворяется замкнутым и отъединенным от мира тёмным, мертвенным пространством (жилье Раскольникова сравнивается со шкафом, сундуком и гробом), в котором уже невозможно ощутить себя в полный рост человеческого достоинства (высокому человеку жутко) и в котором способны образоваться только бредовые идеи (жёлтая каморка ассоциируется с «жёлтым домом» — домом умалишенных): «А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят!» Таково душевное пространство, в котором формируется идея Раскольникова: «…там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу, и созревало всё это вот уже более месяца». Не случайно в минуту просветления после получения письма матери «ему стало душно и тесно в этой желтой каморке… Взор и мысль просили простору».
В чём заключалось состояние метафизического героя, предваряющее и подготавливающее преступление. Полное безделье («лежа по целым суткам») обессмысливает жизнь. Потеряв истинные ориентиры, сознание героя вяло, но неукротимо сосредоточивается на фантазиях: «…молодёжь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грезах». Достоевский замечает, что человек как существо, предназначенное к творческому созиданию, не способен впасть в полный индифферентизм — равнодушие, безучастность, безразличие. Поле битвы добра и зла — сердца людей, и потому духовная дремотность и апатия не освобождают от драмы бытия. Обезволенная душа рано или поздно порабощается злыми духами. Поначалу невинное, но пустое фантазерство Раскольникова («Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки!») постепенно превращается в преступную мечтательность (безобразная мечта). Родственность идеи Раскольникова маниловщине обнаруживается в момент, когда Раскольников идёт совершать убийство: «Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслию об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешёл к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь». Такого рода фантазирование греховно потому, что поглощает энергию и опустошает душу, искажает сознание, подготавливая почву для патологических и преступных идей. «Давным-давно как зародилась в нём вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения». Больной вопрос формирует некие образы, понятия и установки, которые выходят из-под контроля совести и сознания, развиваются самопроизвольно и в кризисных ситуациях могут реализовываться спонтанно. Раскольников был пустым мечтателем до того, как получил письмо матери, из которого выяснилось, что хроническое безденежье преследует его родных, и что сестра приносит себя в жертву ради его будущего. Сама жизнь потребовала действия. Неожиданно для Раскольникова фантастическая идея, которая «месяц назад, и даже вчера ещё, она была только мечтой, а теперь… теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это… Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах». Каково же содержание фантазии, заставившей содрогнуться её создателя?
Постепенно душевные силы Раскольникова концентрируются вокруг идеи, на которой болезненно зафиксировано сознание: «Так бывает у иных мономанов, слишком на чём-нибудь сосредоточившихся». При зарождении идея вполне беззлобна, но в душе, потерявшей органичный строй, лишившейся истинных критериев, она вырастает в чудовищный фантазм — причудливое видение, призрак. Всё начинается со стремления посвятить себя какому-либо «полезному» делу. Раскольников — человек незаурядный во всех отношениях, наделён умом, талантом, красотой. Таковым он себя сознаёт, потому и дело должно быть под стать дремлющим силам — необыкновенное, масштабное. Как и его сверстники-идеалисты, он, наверное, хотел бы осчастливить одним махом если не все человечество, то, во всяком случае, многих людей. Этого можно было бы достичь, распоряжаясь капиталом, который несправедливо и противоестественно сосредоточен в руках людей негодных и никчемных (старушка — зловредная вошь). Дело за тем, чтобы капитал изъять и распорядиться им по естественной справедливости. Так зарождается вторая ведущая тема в идее героя. Хотя всё это ещё фантазии, он начинает ощущать себя созидателем, распорядителем, вершителем событий, судеб. Формируется синдром[2] наполеонизма, мания величия. В результате Раскольников «совсем не производит впечатление свободного человека. Он — маньяк, одержимый ложной „идеей“» (Н.А. Бердяев).
В записных книжках Достоевский формулирует идею Раскольникова: «Я ли не такой человек, чтобы позволить мерзавцу губить беззащитную слабость. Я вступлюсь. Я хочу вступиться. А для этого власти хочу… Я власть беру, я силу добываю — деньги ли, могущество ль, не для худого. Я счастье несу…» Когда «Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыплёнок, и очень, очень занимала его», с Раскольниковым происходит неслучайная случайность — он слышит в трактире собственную идею: «Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору совести!.. с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живёт, и которая завтра же сама собой умрёт… С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обречённые в монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасённых от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, — и всё это на её деньги. Убей её и возьми её деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь — тысячи жизней, спасённых от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика?.. Конечно, всё это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уж слышанные им, в других только формах и на другие темы, молодые разговоры и мысли».
Раньше летающие в воздухе абсурдные мысли не задевали здоровую душу. Теперь же, в распалённом воображении героя они получают болезненный отзвук, как ядовитые трихины поражают потерявшую нравственный иммунитет душу: «Этот ничтожный трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание». Так зародившаяся ложная идея блага порождает в воспаленной душе чувство ложного мессианства — ощущения себя спасителем. Маниакальное самовозвеличение приводит к крайним выводам: на сверхчеловека не распространяются нравственные законы, существующие для инфантильных душ большинства, низменной толпы. Трепещущая тварь должна повиноваться избранному меньшинству — власть имущим. Сильная личность стоит вне закона. Она выше обыденной морали, как бы за пределами добра и зла. Поэтому истинное величие в том, чтобы стремиться к заданной цели, отменяя нравственные предписания и заглушая голос совести, как рецидив слабости и посредственности.
Достоевский показывает психологию формирования мании величия. Силы, умения, таланты есть, идея, цель ясны — это уже признак величия для Раскольникова. Чтобы утвердиться на этой «высоте», необходимо не только найти конкретный путь достижения цели (дело техники рассудка), но и решиться на его осуществление. Поступок во имя идеи оказывается решающей гранью, выводящей из области фантазий в область реальности. Он же будет проверкой и критерием истинности позиции, утверждением собственного величия. Так средство к достижению цели подменяет цель. Не случайно Раскольников не знает, как распорядиться похищенным богатством. Достоевский вскрывает внутреннюю диалектику прельщения: не может быть нравственно оправдано достижение благих целей порочными средствами, которые неизбежно становятся самоцелью, вытесняя самые благие побуждения.
Перед решающей гранью Раскольников цепенеет в нерешительности. В этом и состоит проблема пре-ступления — переступления через незыблемые Божии законы («Божья правда, земной закон», — по Достоевскому), в основе которых свобода, суверенность и неприкосновенность человеческой личности. Человек — венец творения Божьего и сотворец Богу, он не может быть средством к достижению даже самых высоких целей. Можно ли для счастья многих убить одну невинную душу? — это проблема оправдания Божьего творения. Остатки нравственного чувства не позволяют Раскольникову поставить этот вопрос в законченной и обнажённой форме. Он пытается сбежать от угрызений совести, придавая проблеме оправдывающую форму: можно ли для счастья многих лишить жизни одного ничтожного человека (зловредную вошь).
Душа Раскольникова в период, предшествующий преступлению, в смятении и борении. Оттесняются её положительные качества, и обнажаются низменные стремления. Фантасмагорическая идея постепенно захватывает его полностью. Она подавляет всплеск совести во сне о лошади, где Раскольников открывается как человек по природе добрый, способный к состраданию. Через сон Раскольников ощутил убийство не как алгебраический знак, а как реально пролитую кровь: «Боже! — воскликнул он, — да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать… прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?.. Да что же это я!.. Ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил?» Он отказывается от своего замысла: «Господи! Ведь я всё же равно не решусь!.. Господи!.. покажи мне путь мой, а я отрекусь от этой проклятой… мечты моей». И даже переживает эйфорию отрезвления: «Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» Но всплеск совести и жажда освобождения от инфернального наваждения не были волево утверждены, поэтому опрокидываются волной мутных страстей. Подавленное нравственное чувство проявляется только в мгновения отрезвления: «О Боже! как это всё отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это нелепость! — прибавил он решительно. — И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, моё сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц…» Но всплески совести постепенно затухают. Остатки разума и совести сказываются только в страхе и нерешительности, оттягивавших преступление. Раскольников чувствовал, что за этим шагом — бездна. Но идея уже неотвратимо захватывает всё его существо. «Человек делается одержимым какой-нибудь „идеей“, и в этой одержимости уже начинает угасать его свобода, он становится рабом какой-то посторонней силы» (Н.А. Бердяев).
Наступает момент одержимости, когда вся энергия героя сосредоточивается на идее. Если до этого многие внешние обстоятельства и внутренние переживания как бы предостерегали о смертельной опасности навязчивого пути, то теперь формирование и осуществление замысла подстегивается и событиями жизни, и порывами героя. Всё, что с ним происходит, болезненно заостряет вопрос, на который воспаленное сознание дает ложный ответ. Так, роковыми оказались для Раскольникова раздумья на бульварной скамейке, где он встретил поруганную девочку. Маниакальная идея паразитирует на душевной энергии, ложно её ориентируя. Ум Раскольникова работает чётко, его чувства обострены только тогда, когда это способствует осуществлению идеи. Разрушены духовно-нравственные основания человека, выдернутого из почвы, из земли, потому слабыми оказываются защитные доводы рассудка.
Какую альтернативу может предложить немощный, человеческий разум? Воплощением рассудочно-рациональной стороны Раскольникова является Разум-ихин. В решительный момент, когда идея становилась повелением, Раскольникова бросило к нему. Но он остановил себя: «Что ж, неужели я всё дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашёл в Разумихине?» Доводы рассудка оттесняются, теперь рассудок призван разве что легализовать преступление: «Я к нему… на другой день после того пойду». И Разумихин — первый, с кем общается Раскольников после преступления. Но контакта у них не возникает. В обыденной ситуации Разумихин мог бы олицетворять реальный выход из положения. Разумихин — здоровый, целостный, но приземлённый, рассудочный человек. У него не возникает многих вопросов, потому что его сознание поверхностно и тем самым вне проблем. Раскольников же личность усложнённая, углублённая и утончённая. Он сознает ущербную частичность и искусственность мира ученого-специалиста и мещанскую ограниченность его жизни. И он отвергает рассудочную альтернативу. Спасительной же целостной идеи его душа не может породить, ибо расколоты основания жизни.
Образ Раскольникова по мере приближения к моменту преступления обезличивается. Воля парализуется. Он вроде и не принимал «окончательного решения», ибо, «несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда ни на одно мгновение не мог уверовать в исполнимость своих замыслов во всё это время». Но преступление и состоит в том, что в решительный момент он не противопоставил захватывающей его маниакальной идее совестливого волевого акта. Человек призван к непрерывному творческому напряжению, и чем ответственнее ситуации — тем более. Отказываясь от свободы и ответственности решения, проявляя безволие, герой тем самым внутренне уже преступает черту, выходит из области личностного бытия и попадает под власть натуралистических сил, роковых и фатальных стихий. Проявляя себя как ответственная свободная личность, человек пролагает свой неповторимый путь, преодолевая мировую эмпирию, ибо свободное творческое самоопределение выводит из-под власти сил мира сего. Напротив, обезличенный маньяк выпадает в безличностное измерение и оказывается марионеткой злых сил, роковым образом влекущих к гибели. «Ни о чём он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли…» Окончательное решение Раскольников принимает совершенно безвольно. Воспаленное сознание воспринимает идею уже не как фантазию, а как императив. С этого момента он не властен над собой, попадает в руки фатальной предопределенности: «Последний же день, так нечаянно наступивший и всё разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в неё втягивать».
Достоевский вскрывает закономерность развития духовного заболевания — идеомании. Болезнь начинается с гипертрофированной рационализации жизни и эгоистического своеволия. Затем по законам саморазрушения одержимый слепо подчиняется внешним силам, превращается в бессознательное, лишенное индивидуальной воли существо: «Он был точно в бреду», «Он плохо теперь помнил себя…», «Он не спал, но был в забытьи». Идеологическое заболевание есть сон сознания и совести, забытье души, сомнамбулизм — бессознательные, внешне упорядоченные действия. В этом состоянии человек не ведает, что творит: «…ум его как бы померкал мгновениями, а тела своего он почти и не чувствовал на себе… Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать им: минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам». В облике случайных событий фаталистические силы подвигают Раскольникова по роковому пути: случайно он услышал разговор на базаре, случайно ему попался необходимый топор, случайно никого не было в решительный момент и рядом оказалась пустая квартира. Но «присутствие каких-то особых влияний и совпадений» — губительная цепь случайностей, рабство у злой силы: «Не рассудок, так бес!». Так же случайно в квартиру убитой приходит сестра, и Раскольников вынужден убить невинную. Более того, одно убийство ужасающе прерывает череду возможных рождений человеческих жизней: в романе есть намёк на то, что Лизавета была беременна.
Вступив в сферу зла, человек вынужден существовать по законам зла: каждый злой поступок неизбежно влечёт за собой цепь зла. Обнажается порочность попыток нравственно оправдать убийство. Нравственные законы безусловны и не имеют исключений. Есть черта, которую человек не имеет права переступать ни при каких условиях и оговорках: никто, кроме Бога, давшего жизнь человеку, не может лишить его жизни. Преступив эту черту, Раскольников сталкивается с неотвратимыми последствиями преступления. Это проблема наказания.
Прежде всего, выясняется, что совершённое убийство оказывается бессмысленным. Похищенное богатство жжёт руки Раскольникову, и он не только не может найти ему применения (до этого не доходит дело), но и не может от него избавиться. Преступная цель при первом к ней приближении превращается в мираж. Иллюзорным оказался и другой полюс идеи Раскольникова: он не только не получил свободы великого человека, но оказался порабощенным и беспомощным более, чем когда-либо. «Раскольников вместе с ничтожной и зловредной старушонкой уничтожил самого себя. После „преступления“, которое было чистым экспериментом, потерял он свою свободу и раздавлен своим бессилием. У него нет уже гордого сознания. Он понял, что легко убить человека, что эксперимент этот не так труден, но что это не даёт никакой силы, что это лишает человека духовной силы. Ничего „великого“, „необыкновенного“, мирового по своему значению не произошло от того, что Раскольников убил процентщицу, он был раздавлен ничтожеством происшедшего… Достоевский изобличает лживость претензий на сверхчеловечество. Обнаруживается, что ложная идея сверхчеловечества губит человека, что претензия на безмерную силу обнаруживает слабость и немощь» (Н.А. Бердяев).
Цель, сформулированная вне органичного жизненного и нравственного уклада, неизбежно оказывается призрачной. Идея, которая вырывается из гармоничной иерархии ценностей и абсолютизируется, превращается в разрушительного ложного духа. На этой частичной цели фокусируется вся жизненная энергия, идея порабощает человека, превращает в идеологического маньяка. Идеологическая одержимость направляет на разрушение основ бытия и собственной жизни. Порочность идеологизма (доминирующей и формообразующей идеи в системе идеологии) проявляется и в безжизненной рационализации. Идея оказывается частичным, искусственным знаком, отражающим фиктивный, иллюзорный мир. Попытка формально-логически найти решения важнейших вопросов жизни приводит к созданию идеологических догм — ложных образов истины. Они играют роль магических заклинаний, вызывающих из «подполья» демонические стихии. Таким образом, идеологизм объединяет крайнюю рационализированность с тёмной аффективностью. Орассудочивание низменных страстей ввергает в бредовое состояние, когда недозволенное совестью воспринимается как арифметически необходимое: «…даже нет никаких сомнений во всех этих расчётах… это всё, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика». Арифметическая справедливость отменяет справедливость нравственную. Такова диалектика секуляризованного рассудка.
Вне контроля разума и совести рассудок оказывается источником и провокатором духовного заболевания человека. Эвклидова логика заводит Раскольникова в нравственный тупик, в одержимость собственной рационализированной идеей. «Арифметики губят», — записывает Достоевский в черновиках романа слова Сони, олицетворяющей начало кроткого смирения, целостной веры и любви. Ибо арифметическая «простота представляющегося», есть «бессодержательность жизни». В «Дневнике писателя» Достоевский не раз возвращается к проблеме упрощённости-уплощённости восприятия жизни, отравляющей самою жизнь: «Душа не вынесла прямолинейности безотчётно и безотчётно потребовала чего-нибудь более сложного… холод и мрак окружающего, тягость, ничтожность переданного душе её мира, невозможность что-нибудь в нём уважать. Существо, замученное бессознательно слишком уже упрощенным взглядом на жизнь и бытие… Действительность глубже всякого человеческого воображения, всякой фантазии. И несмотря на видимую простоту явлений — страшная загадка».
Достоевский впервые вскрывает прообраз идеологической болезни. Это форма духовного прельщения, при которой человек соблазняется служением маниакальной идее — идеомания. При рационализации живой жизни частная искаженная идея подменяет полноту реальности. Идеологизированная идея содержит, во-первых, искушение ложным образом добра и, во-вторых, мессианскую одержимость, манию величия. Идейное безумие начинается как болезненные фантазии секуляризованного ума («Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце…»), затем поражает нравственное чувство (совершение зла из маниакального стремления к ложно понимаемому добру) и личную волю (культивирование гипертрофированного индивидуализма). Подвержен ли идеологической одержимости человек или общество, оказываются ли материалом абсолютизации и искажения бытовые, материальные, социальные, научные, нравственные, эстетические ценности, — во всех случаях одинакова структура идеологической трихины — носителя и возбудителя духовного заболевания.
История написания романа показывает, как мучительно искал Достоевский чёткий образ. Долгое время он стоял перед дилеммой: какую из идей вложить в судьбу героя. Художественное чутье писателя склоняется к двуплановой мотивации преступления — совместить две идеи. Это дало возможность вскрыть закономерность их взаимодействия: у всех, стремящихся к добру через преступление нравственного закона, формируется мания величия. С другой стороны — все великие злодеи во все времена ощущали себя благодетелями человечества.
Достоевский описывает периоды болезни духа и её катастрофические последствия. После убийства Раскольников переживает страшное душевное потрясение. В его состоянии намечаются две тенденции: проявление обычного — слабого человека и попытки самоутверждения человека нового — сильного. Первое — это реакция нравственной природы на совершившееся, муки и боль совести. Второе — попытки преодолеть нравственные муки через самоутверждение нового сильного существа.
Непосредственно после убийства у Раскольникова распадается личностный центр, управляющий сознанием и поведением: «Клочки и отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове; но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия… Он чувствовал во всём себе страшный беспорядок. Он сам боялся не совладать с собой». Душевное равновесие нарушено, Раскольникова то бросает к самоубийству, то тянет признаться, обличить себя. Человеческая душа не может выдержать нравственных мук преступления, и потому неустойчивое душевное состояние переходит в новое качество, в котором преступление будет переживаться как содеянное органически, естественно. В новом состоянии ожидаемых угрызений совести герой уже не испытывает, настолько в нём заглушено нравственное чувство. Вместе с тем, он ощущает ущербную, испепеляющую отъединённость от человеческого бытия, мистический разрыв с человечеством: «Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его». Раскольников пронзительно почувствовал, что убийца — вне людей, он как бы уже и не человек. Преступление вывело его из мира людей в иное измерение: «Да и всё-то кругом точно не здесь делается… Вот и вас… точно из-за тысячи вёрст на вас смотрю…». Черта, отделяющая живой мир и инфернальную сферу, реально ощутима и непреодолима: «С ним совершилось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтоб он понимал, но он ясно ощущал, всею силою ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже с чем бы то ни было ему уже нельзя более обращаться к этим людям… И будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним и даже ни в каком случае жизни; он никогда ещё до сей минуты не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее — это было более ощущение, чем сознание, чем понятие; непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнию пережитых им ощущений».
Раскольников почувствовал, что его природа теперь иная и к нормальной жизни возврата нет: «Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался… ещё так недавно. Даже чуть не смешно ему стало, и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь всё это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и все, всё… Казалось, он улетал куда-то вверх, и всё исчезало в глазах его… Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту». Таковы мистические последствия преступления: переступив черту, отделяющую живую жизнь от прозябания нежити, убийца внутренне переродился и отныне будет чувствовать пропасть, отделяющую его от людей, даже от самых близких — сестры и матери: «Обе бросились к нему. Но он стоял как мёртвый; невыносимое внезапное сознание ударило в него, как громом. Да и руки его не поднимались обнять их: не могли». Мучительное ощущение адской бездны не покидает Раскольникова: «…опять одно недавнее ужасное ощущение мёртвым холодом прошло по душе его; опять ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только никогда теперь не придётся ему успеть наговориться, но уже ни об чем больше, никогда и ни с кем, нельзя ему теперь говорить».
Преступники образуют своего рода античеловечество, в котором убийца мистически опознает убийцу: «Давеча, как я вошёл и увидел… тут же и сказал себе: «Это тот самый и есть!» — говорит Свидригайлов Раскольникову. То новое, что с таким ужасом ощущает в себе герой, есть нарастающая инфернальность его существа, выпадение из мира человеческого — в мир бесовский. «Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало», — авторитетно свидетельствует Свидригайлов — наиболее инфернальное существо в романе.
В период трехдневного беспамятства Раскольникова в нём умирает старый человек (чувствительный друг человечества) и нарождается новый — идеологический маньяк. Теперь он не тяготится своим беспредельным одиночеством, но демонически самоутверждается в нем: «Оставьте, оставьте меня все!.. Прочь от меня! Я один хочу быть, один, один, один!» Страх, безволие, малодушие сменяются яростной энергией. Он самоупоенно дерзок: «А что, если это я старуху и Лизавету убил?» — кричит он Заметову в трактире. При этом он испытывает «дикое истерическое ощущение, в котором, между тем, была часть нестерпимого наслаждения». Его охватывает сласть мазохистского самоистребления. Он побывал в доме убитой, спрашивал про кровь, сообщил дворнику свой адрес и имя. К этому его толкала неосознаваемая тяга старого человека к разоблачению, но в этом сказывалось и притяжение риска самоупоенной гордыни. Восставший новый человек-идея готов к тотальной борьбе: «Царство рассудка и света теперь и… воли, и силы… и посмотрим теперь! Померяемся теперь!.. Сила, сила нужна: без силы ничего не возьмешь; а силу надо добывать силой же… — прибавил он гордо и самоуверенно и пошёл, едва переводя ноги…» Самоуверенная гордыня способна только дохло самоутверждаться — едва переводя ноги.
Горячечное сознание формулирует свой катехизис: всевластие рассудка, тотальное самоволие и демонический титанизм. Самоощущение нового человека прогрессирует: «Гордость и самоуверенность нарастали в нём каждую минуту; уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую». Но это не было новым рождением, а очередной иллюзией, самообманом. Новое целиком ещё в старом: гордо и самоуверенно, но одновременно едва переводя ноги, — это попытка хватающегося за соломинку. Вместе с тем, он ощущает прилив неведомых сил и проявляет новые качества: звериную хитрость, неслыханную дерзость, сатанинскую гордыню. Это выплеск «подпольных» стихий, которые в нормальном состоянии вытесняются, контролируются либо преображаются. Искреннее страдание вызывает в Раскольникове понимание, что он так и не смог стать настоящим властелином: «Я это должен был знать… и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться… Я обязан был заранее знать… Э! да ведь я же заранее и знал!..» — прошептал он в отчаянии». Раскольников винит себя не в убийстве человека («старушонка вздор»), а в том, что не смог соответствовать собственной идее: «…я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался…» Раскольников в отчаянии оттого, что не смог войти в общество великих людей («на этой стороне остался»), в чём проявил полную несостоятельность по отношению к своей же идее-принципу.
Это пик идеологической одержимости, когда абстрактный принцип вытесняет ощущение высшей ценности человеческой жизни. Народившийся новый модус[3] души явится причиной многих мытарств героя, но остатки человечности будут залогом возрождения. Именно потому, что он не переступил окончательно, в нём безо всяких, казалось бы, оснований прорывается упование: «Может быть, всё воскреснет!..»
Таким образом, перед нами очередной период духовной болезни, вызванной эгоистическим своеволием и мертвящим рационализированием. Увлечение мечтателя-индивидуалиста носящимися в воздухе идеями неизбежно ведёт к идейной одержимости и безудержной активности по её реализации. При идеологическом бесновании действует сомнамбулическая оболочка человека, в которой господствуют тёмные стихии. Индивидуальная воля и сознание подавлены, человек превращается в песчинку стихий или винтик механизма.
В следующем периоде болезни постепенно пробуждается самосознание, но для оправдания содеянного, проявляется индивидуальная воля, но в форме тотального самоутверждения. Герой, преследуемый комплексом самооправдания, формулирует новые догмы и активно их утверждает. Он превращается в носителя и распространителя идейной заразы. Болезненное переживание разрыва с человечеством заменяется упоением собственной исключительностью и страстным желанием всех переделать по идеологическому образцу.
После всплеска идеологического исступления ещё больше ослабевает единство личности: душа героя раскалывается (Раскольников). Внутренние состояния и процессы окончательно выходят из-под контроля индивидуального «Я». Борьба добрых и злых начал ещё более обостряется. И положительные силы души, и порабощающие идеи и стремления развиваются до предельного выражения и, наконец, объективируются, опредмечиваются вовне. Здесь-то и оказывается, что горизонт души метафизического героя вбирает в себя, помимо душевного поля Раскольникова, событийное поле романа.
Процесс деперсонализации (развоплощения, распада личности) художественно выражается появлением в третьей части романа новых действующих лиц и событий, которые оказываются объективированным и увеличенным отображением процессов, происходящих в душе Раскольникова. Герой остается композиционным и духовным центром повествования, но составные части его души рассыпаются по полю действия романа. Борьба его протагонистов — образов, отражающих сущность и характер самого героя, и антагонистов — образов противоположных герою взглядов и позиций, — эта борьба в его душе и вне его достигает величайшего напряжения. Такой художественный приём указывает на то, что на определённом этапе идеологическая болезнь вызывает распад личности. Идейное беснование неминуемо создает вокруг себя зону заражения, в которую втягиваются посторонние лица и силы. Всё вовлекается в роковую борьбу. Некоторые персонажи, являясь двойниками Раскольникова по происхождению, действуют независимо от него, выражая этим завершение воплощаемой ими идеи или позиции.
«Почему Раскольников назван метафизическим героем и в чём его отличие от других? Мы замечаем, что в романе, с одной стороны, все персонажи законченные и самостоятельные, вместе с тем они своего рода порождения Раскольникова, «вызваны» (как вызывают духов) им в нужный момент, втянуты в поле романа. Свидригайлов, Порфирий Петрович, Разумихин и даже Миколка служат своеобразными зеркалами Раскольникова. Но они остаются непроницаемыми для него, а он — для них. Узнавая себя в других и отталкиваясь от этих отражений, он делает всё новые шаги в лабиринте, в который вталкивает его идея. Исключение составляет только Соня, для которой Раскольников становится проницаемым, — она растопляет его своей верой и святой, бесконечной любовью, и разрешает его от рока» (Е.Н. Андреева).
Итак, неотвратимым последствием преступления или наказанием является потеря свободы, порабощение идее, разрушение единства личности. Вместе с тем, борьба обостряется, обнажаются все действующие силы. Для самосохранения и спасения Раскольников должен волевым усилием преодолеть раскол души и вновь собрать в единство деперсонализированные стихии: одни отсечь, другие преобразить. Разнообразие черт и противоречивость характера главного героя, как в зеркалах, отражается в других персонажах. С позиций Разумихина, который персонифицирует рассудочную сторону Раскольникова, виден его болезненный надрыв. То, что говорит Разумихин, мог бы осознать и сам Раскольников, если бы он имел более элементарную природу и не находился в аффективном состоянии: «Я Родиона знаю: угрюм, мрачен, надменен и горд… Иногда… холоден и бесчувственен до бесчеловечия; право, точно в нём два противоположные характера поочередно сменяются… Ужасно высоко себя ценит, и не без некоторого права на то… Никого не любит и никогда не полюбит». Это обнажающая, но не полная правда о характере героя. Рассудок способен обнаружить противоречивость характера и его порочность. Но ему недоступна глубина и диалектика полярных начал в душе героя. В то же время Разумихину открываются страшные последствия идеологии Раскольникова: «…оригинально во всём этом… это то, что все-таки кровь по совести разрешаешь… Ведь это разрешение крови по совести… это… это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное…». Разоблачение Разумихина показывает, что фантасмагорическая идеология не выдерживает критики здравого смысла. Идеологически одержимые люди являются невменяемыми не только с позиций духовно-нравственных, но и с точки зрения обыденного рассудка.
Порфирий Петрович олицетворяет голос разумной совести Раскольникова. Напряжённый диалог Раскольникова с Порфирием Петровичем с обыденной точки зрения представляется немотивированным и зачастую бессмысленным. Его можно понять, если предположить, что это изображение борьбы противоположных начал в душе героя, вынесенной вовне. Вместе с тем, облик Порфирия Петровича не прямолинеен. Выразитель земного разума и совести не только риторичен и назидателен. Поведение Порфирия Петровича нередко нелогично, он хитрит, любит подурачить и надуть, наделен слабостями характера и комическими чертами. К нему, отчасти, можно отнести высказывание Достоевского по поводу создания образа старца Зосимы: «А тут вдобавок обязанность художественности: потребовалось представить фигуру скромную и величественную, между тем жизнь полна комизма и только величественна во внутреннем смысле, так что поневоле, из-за художественных требований, принуждён был в биографии моего инока коснуться и самых пошловатых сторон, чтобы не повредить художественному реализму». У Достоевского пошловатые и комические черты персонажа не исключают светлых и высоких его качеств. Достоевский, реалист во внутреннем смысле, не мог погрешить против жизни — художественного реализма.
В диалогах с Порфирием Петровичем воплощается трудный и болезненный процесс нравственного самоосознания героя. Разум неотрывен от совести: человек понимает то, что хочет понимать, и не осознает того, чего не желает осознать. Не случайно Порфирий Петрович внушает Раскольникову мысль, что наиболее нравственные решения оказываются наиболее разумными. Зов совести заставляет звучать разум, последний же в лице Порфирия Петровича обнажает безысходность попыток утвердиться в преступной позиции. Порфирий Петрович видит чудовищные последствия ложной идеи. Он единственный, кто понимает проблему сполна. Его голос — это голос здорового нравственного сознания Раскольникова, подсказывающий, что герой «психологически не убежит… по закону природы… не убежит…». Порфирий Петрович требует от Раскольникова сознаться в преступлении, хотя фактов у него достаточно, чтобы и без того доказать виновность Раскольникова. Совесть и разум указывают направление и первый шаг по спасительному пути: принять последствия преступления. Далее будет подвигать зов сердца: вера и любовь. Но своевольная самость героя бунтует и не внемлет доводам совести и разума. Эта внутренняя драма вынесена вовне: у Раскольникова вспыхивают приступы ненависти к Порфирию Петровичу и, одновременно, боязни его: «Лжёшь ты всё! …лжёшь, полишинель проклятый… Ты лжёшь и дразнишь меня, чтоб я себя выдал…» Боится Раскольников не самого следователя, а неоспоримости его нравственного свидетельства. Когда неожиданно рассыпается интрига Порфирия Петровича, Раскольников ополчается на всё, что несет в себе этот персонаж: «Теперь мы ещё поборемся». Но голос разумной совести вопреки всему продолжает звучать. Никакой следственной казуистикой, изворотливостью нельзя объяснить откровенное предложение Порфирия Петровича «учинить явку с повинною».
В призывах Порфирия Петровича содержится не интерес юридической справедливости, а забота о душевном возрождении героя: «Эй, жизнью не брезгуйте!.. Много её впереди ещё будет… Ищите и обрящете. Вас, может, Бог на этом и ждал. Да и не навек она, цепь-то… Веру и Бога найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте… а вы лукаво не мудрствуйте; отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, — прямо на берег вынесет и на ноги поставит…», «А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь… Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а, ей-Богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!.. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем… Потому страданье, Родион Романыч, великая вещь… в страдании есть идея». Спасение — в принятии бремени жизни и ответственности, в очищающем страдании, которое искупает и восстанавливает нравственную справедливость, в вере в Высший Промысел. Порфирий Петрович призывает героя выйти из зараженной атмосферы и открыться веяниям здорового духа: «…только воздуху надо, воздуху, воздуху!» О том, как опасен духовный климат, зараженный носящимися в воздухе идеями, свидетельствует и Свидригайлов, фразу которого о воздухе буквально повторяет Порфирий Петрович. Об оздоравливающем воздухе говорит и Соня. Этим Достоевский показывает, насколько важна для нравственного состояния человека духовная общность в человечестве. Мы живём на одной земле, в одной атмосфере, от состояния которой зависит наше физическое здоровье. Но мы погружены и в общий духовный климат, объединены духовной атмосферой, от состояния которой зависит наше нравственное и душевное здоровье. Эта атмосфера духа отражает состояния человечества, вместе с тем она воздействует на формирование человека.
Порфирий Петрович — фигура неоднозначная. Его правильные нравственные формулы отвлечённы и отчасти безжизненны. Может быть, оттого, что Порфирию Петровичу открылся тот же внутренний опыт, что и Раскольникову, но он уклонился от его воплощения. Поэтому он понимает драму Раскольникова, но советы его выглядят несколько риторическими. Вместе с тем, возрождение души Раскольникова проходит по пути, предреченному Порфирием Петровичем. Порфирий Петрович так общается с Раскольниковым, будто смысл оставшейся его жизни — указать герою спасительный выход, затем же он готов и умереть. Порфирий Петрович посетил врача, от которого, наверное, узнал о своей неизлечимой болезни, о чём он проговаривается Раскольникову: «…мне теперь уж всё равно, а следственно, я единственно только для вас… Я поконченный человек… уж совершенно поконченный. А вы — другая статья: вам Бог жизнь приготовил…» Смысл и итог жизни такого персонажа, как Порфирий Петрович, — вдохнуть новую жизнь в Раскольникова.
Казалось бы, всё уже обнажилось, зло демонически самоутвердилось. Но Достоевский вскрывает многоликость зла: паразитируя на здоровых стремлениях, зло обретает всё новые образы. Перед нами мучительный долгий этап окончательной борьбы. Благие импульсы героя по видимости терпят поражения, проявляются эпизодически и подавляются злыми силами. Но внутренне они подготавливают преображение. Полярные начала, борющиеся в душе Раскольникова, воплощены в образах Свидригайлова и Сони. Постепенно всё действие произведения кристаллизуется вокруг трех персонажей. В шестой части романа второстепенные сюжетные линии исчерпываются, герой остается со своими мистическими спутниками, связанными с ним духовными узами, выражающими его сущность, — Свидригайловым и Соней.
Свидригайлов — это злой двойник, скопище низменных страстей и пороков Раскольникова: «…между нами есть какая-то точка общая… мы одного поля ягоды». Это темная природа Раскольникова, доведённая до предела и предстоящая перед ним. Свидригайлов — существо не личное, а воплощенный фантом. Контуры его образа то неестественно ярки и резки, то размыты. Линия разделения добра и зла проходит не между людьми, а по нашим душам. Поэтому у Достоевского нет героя-личности, воплощающего собой порок в чистом виде. Персонаж, являющийся носителем зла по преимуществу, является частным отражением целостной личности и отличается от нее фантастичностью и призрачностью.
Этот ряд тёмных призраков начинается у Достоевского с Фомы Опискина из «Села Степанчикова» и заканчивается чёртом Ивана Карамазова в «Братьях Карамазовых». В первом случае — это своего рода чёрный эпицентр, воплощающий пороки окружающих. После «Преступления и наказания» злое начало персонифицируется в романе «Бесы», в явлении Ставрогину «маленького, гаденького, золотушного бесёнка». Полного развития этот образ достигает в романе «Братья Карамазовы». Чёрт - порождение тёмного подполья самого Ивана Карамазова: «Ты — воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых». То же самое мог бы сказать Раскольников Свидригайлову. Достоевский вскрывает диалектику призрачности и одновременной реалистичности воплотившейся злой идеи героя. Иван яростно кричит черту: «Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду. Ты — ложь, ты — болезнь моя, ты — призрак». Раскольников спрашивает Разумихина: «Ты его точно видел? Ясно видел?.. Гм… то-то… А то знаешь… мне подумалось… мне всё кажется… что это, может быть, фантазия».
Испущенный человеком злой дух обретает собственную волю и самостоятельное существование. Он паразитически вбирает душевную энергию создателя, ослабляя его благие импульсы и провоцируя темные влечения. Инфернальный двойник воплощает предельное развитие тех стихий в душе человека, которые его произвели. Злой дух похищает мировую плоть и может предстать перед человеком в индивидуализированном облике. Призрак материализуется, с ним приходится сталкиваться не только в области душевных переживаний. Иван Карамазов вскакивает, чтобы избить своего приживальщика, надавать ему пинков, запускает в него стаканом. «Нет, нет, это был не сон! Он был, он тут сидел, вот на том диване», — исступленно твердит Иван после исчезновения чёрта. Невозможно опровергнуть реальность злого беса, поскольку он сообщил Ивану факты, которые тот не мог знать.
Свидригайлов — это чёрт Раскольникова, тёмный его двойник. Но он является к герою во плоти, и Раскольников ощущает на себе его агрессивную волю. В Свидригайлове обнажается завершенность болезненной идеи Раскольникова. Он существо, переступившее все и вся, провоцирующее преступные импульсы героя, воплощающее идею преступления. Свидригайлов цинично указывает Раскольникову на его моральную, вернее аморальную, непоследовательность. Герой отменил старую мораль в принципе, но продолжает цепляться за неё в своих суждениях и поступках: «…вы и сами порядочный циник… убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить чем попало…» Свидригайлов олицетворяет итог судьбы Раскольникова, если бы последний дошёл до полного духовного разложения. В своём двойнике герой увидел отражение окутывающего его душу мрака в состоянии полной разнузданности — увидел и ужаснулся. Итогом полной нравственной релятивизации оказываются мировая скука и пошлость, вечность в виде закоптелой бани с пауками. Естественное чувство отвращения к Свидригайлову оказывается спасительным для Раскольникова, остатки здоровой природы сопротивляются окончательному уподоблению образу, рождённому собственной больной фантазией. Раскольников духовно не погиб и потому он испытывает агрессивную враждебность к Свидригайлову. Внутренние борения Раскольникова объективируются в борьбе и спорах его с двойником. В посягательствах на сестру Раскольникова Свидригайлов покушается на жизненные основы героя, так как сестра воплощает связь его с почвой. Натура Свидригайлова склоняет Раскольникова цинично и окончательно утвердиться в новом бесчеловеческом облике. Но перед ужасающей перспективой герой, наконец, отрешается от демонического самоутверждения. От этого ещё далеко до искреннего смирения, но с этого начинается мучительный путь оздоровления души: «…каким же это процессом может так произойти, что он, наконец… смирится, убеждением смирится!» Этот вопрос ещё пронизан скепсисом, но он уже осознан.
В образе Свидригайлова мы встречаем типичный ход Достоевского. Когда герой одержим какой-либо идеей, он обнаруживает на своем пути существо, воплощающее эту идею в её завершенности. Перед героем греховность его идеи предстает в необыкновенно мерзкой форме, что заставляет его содрогнуться и отшатнуться. Такова логика саморазоблачения зла. Так было с Аркадием Долгоруким в романе «Подросток», когда он столкнулся с воплощенным Ротшильдом. То же случилось с Раскольниковым, когда он оказался свидетелем попытки утопиться: «Нет, гадко… вода… не стоит…», — отшатывается Раскольников от собственных мыслей.
В ряду воплощенных злых духов Свидригайлов представляет собой не окончательно инфернальное существо, в нём сохраняются остатки человечности. Он не является самодовольным бесом, а мучается своим состоянием, о чём говорит его полусон, полубред о девочке-утопленнице перед его самоубийством. Он отпускает Дуню, предлагает ей деньги, отдаёт свои средства сиротам, Соне и невесте. И самоубийство в данном случае — это суд над собой перед лицом погубленной, но не окончательно погибшей совести. Низменные, патологические страсти Свидригайлова тоже грехи человеческой природы, а не проявление бесовского начала. Образ такого получеловека-полувидения не может получить дальнейшего развития в силу изначальной несочленённости полярных начал на таком уровне их проявления. Или человек окончательно погибает, или он, чтобы сохраниться, должен более вочеловечиться. С самоубийством Свидригайлова этот неустойчивый образ исчезает и в творчестве писателя. Он возрождается в более «очищенном» виде: противоречивая человечность получает развитие в образе Версилова в романе «Подросток», инфернальное же начало — в бесах и чёрте Карамазова.
Благие порывы Раскольникова и являющиеся ему положительные начала воплощены в образе Сони. Соня — Софья — София — это мудрость любви, веры, надежды, жертвы, само духовное здоровье. В ней олицетворен в романе голос Христовой правды, воссиявшей среди грешников и блудниц. С другой стороны, это зов сердца самого Раскольникова, его глубинное стремление к любви, правде Божией и закону земли. Образ Сони соединяет возвышенное, духовно-просветленное и слабое, детское — сочетание, ненавистное для ницшеанского культа сверхчеловека. Соня не является воплощением Софии, но софийность отражена в характере Сони. Это отсвет Софии-Премудрости во тьме жизни. Уменьшительное имя героини подчеркивает тот факт, что она тоже грешница, падшая, спасающаяся через смирение и раскаяние, которые только и преображают пораженного грехом человека.
Сатанинская гордыня героя яростно борется с этим тихим свидетельством истины. Самоощущение сильного человека заставляет Раскольникова стыдиться в себе этого голоса, он постоянно грубо унижает Соню, цинично насмехается над её советами.
Комнаты, в которых живут герои романа, олицетворяют форму и пространство их души. Если каморка Раскольникова — замкнутое, тесное, удушающее пространство (гроб), то Сонина комната — большая, с тремя окнами. Она похожа на сарай с уродливыми неправильными углами. Душа Сони — не от мира сего, и всё в нём чуждо ей. Судьба её исковеркана, но она остается светлым, открытым миру существом. Как добрый ангел Раскольникова Соня незримо присутствует с самого начала повествования.
На первое свидание к Соне Раскольников пришёл, внутренне решившись сознаться ей в убийстве: «…я пришёл одно слово сказать». Он выбрал Соню, потому что в его представлении она духовно близка ему, ибо тоже преступила: «Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила… смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь… свою (это всё равно!)». Чувство отверженности невыносимо для Раскольникова, и он бросается к Соне, чтобы ощутить человеческую солидарность с ней хотя бы в грехе: «Пойдём вместе… Мы вместе прокляты, вместе и пойдём!.. по одной дороге… Одна цель!» Он ожидает увидеть существо, в чём-то похожее на себя: уединенное, озлобленное, бунтующее. Но с изумлением видит нечто невероятное. Соня ощущает себя бесчестной, великой грешницей, но никого не винит в этом. Смиренно неся свою долю, Соня преисполнена ненасытным состраданием к другим и заботой о близких. С трудом Раскольников понимает, в чём источник жизненной силы Сони: «И тут только понял он вполне, что значили для неё эти бедные, маленькие дети-сироты». Сострадание к другим даёт возможность Соне выжить самой.
Но искореженная душа Раскольникова ещё не способна этого принять. Он считает, что Соня обречена на окончательную гибель: «Ей три дороги… броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом или… или, наконец, броситься в разврат». В то же время он видит, что Соня не сломлена и не чувствует себя обреченной. «Что же поддерживало её?», — спрашивает Раскольников. На что надеется эта сумасшедшая? Не на чудо ли? Раскольников внимательно вглядывается в незнакомый ему душевный мир верующего христианина: «Так ты очень молишься Богу-то, Соня?»
Далее происходит событие, граничащее с чудом. С одной стороны, Раскольников относится к Соне предвзято: «Разве всё это не признаки помешательства?.. Юродивая! Юродивая!» И Евангелие он просит прочитать, чтобы убедиться в своём подозрении. Внешним образом он получает подтверждения. Он видит цель Сониных порывов и скептически их оценивает. Но вопреки всему светлый облик Сони оказывает на него глубокое воздействие: «Тут и сам станешь юродивым! Заразительно!» И слова о чуде воскрешения Лазаря неисповедимо пробиваются к его душе. Соня свидетельствует о спасительных истинах: о сострадании к людям, как первом условии душевного здоровья и жизненной опоры; о вере в высшую справедливость, надежде на возрождение вопреки роковым обстоятельствам жизни.
Милосердная любовь Сони и сострадание к заблудшей и измученной душе привязывают её к Раскольникову. Соня горячо молится о нём, вопреки очевидности надеясь на чудесное воскресение погибающей души. Её духовное целомудрие раскрывает Раскольникову живой лик Христа прощающего, любящего, воскрешающего. Идейная одержимость и бесовская озлобленность ещё терзают Раскольникова: «Свобода и власть, а главное, власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!» Сонина же вера кажется ему помешательством. Но вопреки циничному рассудочному «здравомыслию» и гордыне сверхчеловека семена веры и надежды обронены в душу героя. Он необъяснимо для себя тянется к Соне: «…одна ты у меня осталась… За одним и звал, за одним приходил: не оставить меня. Не оставишь, Соня?» Душа Раскольникова ещё преисполнена зла, но он уже не может без Сони, без её светлого кроткого облика, без оздоровляющего воздуха, который она несёт.
Во втором свидании с Соней герой разоблачает себя. Ему раскрывается порочная бессмысленность его грандиозной идеи. Он ощущает свою одержимость: «Меня чёрт тащил…» Мгновения отрезвления борются в нём с новыми всплесками маниакальности. Но непреодолимое внутреннее влечение вновь приводит Раскольникова к Соне. В третьем свидании герой существует как бы в двух планах одновременно. Внешне он так же циничен и груб, но через эту оболочку пробиваются глубинные импульсы: «…тон и слова эти — всё было напускное». Он просит у Сони кресты, но надеть крест — означает принять крестонесение жизни, крест — это страдание и искупление, смерть и воскресение. Пошлость в его речи, бунтующая против креста, перебивается проблесками осознания, близкого к раскаянию. Он сосредоточен на своём внутреннем, отрешён, речь его сбивчива и бессвязна, но сознание остро фиксирует факты, затрагивающие его потаённые душевные движения. Раскольников под неотразимым воздействием этой слабой девочки, её образ не покидает его: «Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди комнаты, в своём зелёном платке, не смея шевельнуться от его окрика, и приостановился на миг. В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его — точно ждала, чтобы поразить его окончательно».
Его циничный рассудок пытается объяснить причину прихода к Соне: «Ну для чего, ну зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал: за делом; за каким же делом? Никакого совсем и не было дела! Объявить, что иду; так что же? Экая надобность! Люблю, что ли, я её? Ведь нет, нет? Ведь вот отогнал её теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от неё понадобилось?» И вдруг рассудок приходит к неожиданному самообличительному выводу: «О, как низко упал я! Нет, — мне слёз её надобно было, мне испуг её видеть надобно было, смотреть, как сердце её болит и терзается! Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть! И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!» Всё это не следует из эвклидовой логики рассудка. Самоуничижительные слова проявляют смиренный и покаянный импульс сердца, ещё слабый и глубоко загнанный, но постепенно освобождающий ум. В сбивчивую внутреннюю речь Раскольникова вплетена одна фраза, указывающая на действительную причину прихода к Соне: «Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть!» За самообличением скрывается признание: душа жаждет хоть за что-нибудь зацепиться в бытии, обрести опору, а для этого нужна встреча с человеком. Соня и есть этот человек, воссоединяющий с семьей человечества, с почвой. Через неё медленно и болезненно просыпается человеческое достоинство Раскольникова. Соня сумела внедрить в душу героя начала спасительной истины: «…арифметики губят, а непосредственная вера спасает», — говорит Соня (слова из черновиков романа). Мания величия порабощает, смирение — путь к свободе, начало же возрождения к жизни — в покаянии.
Хрупкая, слабая Соня побудила совершить невероятный для гордеца поступок. С Раскольниковым происходит событие, которое выпадает из обыденности: покаяние на Сенной площади. Это событие выглядит бессмысленным и безумным с точки зрения обыденных представлений. Раскольников остро осознаёт нарочитую искусственность такого поступка для постороннего взора и хочет остаться один. Но именно потому, что он кается не только внутренне, но и перед людьми, перед человечеством, в его душе происходят превращения, которые прорываются вдруг на поверхность: «…когда дошёл до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего — с телом и мыслью. Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекрёсток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: «Я убийца!» Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безысходная тоска и тревога этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Всё разом в нём смягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю… Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз».
Этот внешне «бессмысленный» акт преисполнен глубокого внутреннего смысла. Сонино свидетельство пробудило в Раскольникове здоровые силы. Душа его просыпается к покаянию, хотя в этот момент он ещё осознанно не раскаивается. В нём возрождается тяга к попранным истокам и основам жизни. В целовании земли происходит возврат Раскольникова к земле, почве, в человеческую семью. И это не мистически натуралистический или магический, а духовно реальный акт. В духовном плане происходят изменения, которые окажутся созидательными началами возрождения героя. Впервые за долгое время душа Раскольникова, измученная расколом, ощутила возможность цельного, нового, полного бытия. Долог путь возрождения героя, но на страже его судьбы добрый ангел Раскольникова — Соня.
Итак, преступник покаянно целует землю и доносит на себя вопреки эвклидовым доводам собственного ума. В этот момент Раскольников ещё не раскаивается вполне осознанно, его ещё мучают болезненные вопросы, но нравственное чувство толкает на верный путь: «…зачем я иду теперь… Он уже в сотый раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера, но все-таки шёл». «Соня и любовь сломали», — записано в черновиках к роману. Достоевский в письме к Каткову описывает душевные движения героя, приведшие к явке с повинной: «Неразрешимые вопросы восстают перед убийцей, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божья правда, земной закон берёт своё, и он кончает тем, что принуждён сам на себя донести. Принуждён, чтоб хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям, чувство разомкнутости и разъединённости с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучало его. Закон правды и человеческая природа взяли своё. Преступник сам решается взять муки, чтобы искупить своё дело… Он сам нравственно требует наказания».
Поступки героя не всегда адекватны его внутренним состояниям. Духовные импульсы подготавливают эмпирические действия, которые в свою очередь открывают новые условия для внутренних изменений. На каторге долгое время с Раскольниковым по видимости ничего существенного не происходит. Он все так же угрюм и замкнут. Напряженная умственная работа привела к полному убеждению в правоте совершённого. Эвклидова логика развила первоначальную идею до завершения: он не виновен в злодеянии, своё преступление он признает только в том, что не вынес его последствий и сделал явку с повинной. «Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил». Это последний всплеск оскорбленной своей несостоятельностью демонической гордыни. Но, продумывая содеянное и мучаясь итогом своих размышлений, он, вместе с тем, в глубине души испытывал и другие чувства. Духовные борения, пережитые им в прошлом, подготавливали новые процессы в его душе, «и он не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь». Грядущее преображение властно вторгалось в душу и разрушало эвклидовы построения. Соня и здесь является невидимым лекарем души героя. Но Раскольников не выдерживает невероятного душевного напряжения и серьёзно заболевает.
Вновь нарождение нового человека происходит в состоянии беспамятства. Это катастрофический переход из одного мира в другой, сопровождающийся разрушением старого и становлением нового сознания. Идеологическая болезнь выходит, возвращается духовное здоровье. В этот переломный момент Раскольникова посещает колоссальное пророческое видение. Свежи ещё следы пережитого, и возрождающаяся душа опознает мучающих её и выходящих из неё духов зла.
«Он пролежал в больнице весь конец Поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда ещё лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали заражённые. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нём в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовёт, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремёсла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предлагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек; это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».
В видении Раскольникову открывается сущность его духовной болезни, и то, что немочь эта общечеловеческая. Он ощутил своё душевное помутнение как часть духовного заражения общества. После пророческих сновидений происходит духовное воскресение героя. Через любовь к Соне восстанавливается целостность его души, он тянется к дальнейшему преображению: «Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что её надо ещё дорого купить, заплатить за неё великим, будущим подвигом… Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен».
На моменте воскресения Достоевский окончил свой духовный анализ, не только относительно Раскольникова, но и для будущего своего творчества. В последующих произведениях он вновь и вновь возвращался в прошлое героя романа «Преступление и наказание», пристально вглядываясь в главную тему, углубляя и расширяя её.
Основные выводы темы метафизики зла в романе «Преступление и наказание»:
- Зло в мире появляется как результат человеческого ложного выбора и греховного поступка, которые зарождаются в душе, порвавшей связи с органичным религиозным укладом и традиционной национальной культурой, почвой, землёй. Отрыв от целостной жизни уводит в эвклидову диалектику отвлечённого умствования, а отказ от напряжения волевого выбора и нравственной ответственности ведёт к выпадению из реальности в иллюзорную мечтательность.
- Зло — прежде всего, лжедуховность, болезнь обезволенного, отвлечённого от истинных жизненных реальностей ума, опрокинутого в душевное «подполье». Романтическое беспредметное фантазирование заканчивается орассудочиванием низменных страстей. Душевная жизнь сосредоточивается вокруг маниакальной идеи, которая и предельно рационалистична, и бессознательна, аффективна одновременно. Обвал в сознании и выплеск на поверхность подпольных стихий ввергают в бредовое состояние, когда аморализм воспринимается как арифметически обоснованный императив.
- Содержание идеологизма двухполюсно: во-первых, это искушение ложно понимаемым благом, во-вторых — непреодолимое стремление воплотить это «благо» приводит к формированию чувства мессианства — ощущения себя спасителем человечества, а также ложного миссионерства — стремления распространить и навязать свои взгляды. В конечном итоге, это состояние развивается в ту или иную форму мании величия. Открывшаяся «истина» неудержимо влечёт идеологически одержимого к насильственному её осуществлению.
- Порождённые пустой фантазией идеи превращаются в духов зла, порабощающих душу, подчиняющих многообразие жизни ложной цели. Они расщепляют единство души, разрушают облик личности как образ и подобие Божие в человеке, подменяют его фиктивным маниакальным единством.
- Испущенные человеком злые духи могут приобретать собственную волю, способны похитить мировую плоть, индивидуализироваться и предстать перед человеком как внешние, враждебные ему существа — бесы.
- При этом «Образ, который они принимают, также зависит от их выбора; а так как сама сущность бытия бесов — ложь, образ этот — фальшивая видимость, маска. По характерной русской пословице, „у нежити своего облика нет, она ходит в личинах“» («Мифы народов мира. Статья „Бесы“»). Свои личины нежить формирует в зависимости от направленности агрессии злой воли. Но наиболее коварными возбудителями беснования являются расхожие прельстительные помыслы, подменные идеалы, духовные соблазны.
- Злые духи, одарённые умом и волей, эти трихины, существа микроскопические, создают идеологическое поле, заражающее и перерождающее духовную атмосферу. «Идеи летают в воздухе, но непременно по законам, идеи живут и распространяются по законам слишком трудно для нас уловимым: идеи заразительны, и знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни о чём никогда не заботившемуся, и вдруг заразит его душу своим влиянием» («Дневник писателя»). Подверженные недугу духа становятся источником заразы для других: «Как скверная трихина, как атом чумы, заражающей целые государства, так я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю» («Сон смешного человека»).
Некоторые аспекты темы зла в романе здесь не рассматривались, так как в последующих произведениях Достоевского они получили большее раскрытие. Это проблемы атеистического гуманизма, богоборчества, социального утопизма, диалектики свободы и рабства человеческого духа, идеологического коллективизма.
Основной нравственный вывод романа в том, что человек ни на каких основаниях не смеет нарушать «Божию правду, земной закон», богочеловеческую истину: для воплощения самой лучшей идеи нельзя принести в жертву жизнь даже самого низкого человечка. Старуха, это злобное существо, олицетворяет собой искушение нравственной совести героя. Со злом невозможно бороться преступными средствами. Всякая попытка такого рода неминуемо ведёт к умножению зла, которое окончательно захватывает, прежде всего, самого дерзко преступившего незыблемые духовные устои, и он превращается в сеятеля ещё более чудовищных форм зла, чем то, которое вызвало в нём желание исправить эту описку природы. С другой стороны, самая благая цель недостижима злыми средствами, которые неминуемо превращаются в самоцель.
Достоевский показывает неразрушимость метафизических основ души человека. Даже после величайшего преступления искра Божия сохраняется в человеке, он может воскреснуть. И после самого низкого падения у человека остается обязанность подняться. Долгая история душевных мучений Раскольникова свидетельствует, насколько неуничтожим подавленный голос совести в человеке («Закон правды и человеческая природа взяли своё»). Залог спасения — в слышании голоса совести, голоса Божьего в себе, пробивающегося из-под идейных глыб, которые подавляют живую жизнь. Зов сердца продолжает звучать в растерзанной душе и, вопреки логической неумолимости и эмпирической очевидности, подсказывает, что «Бог поможет» пробуждающемуся к вере и надежде. Это внутреннее чувство высветляет путь возрождения: через покаяние и самоограничение, обуздание собственной гордыни, через сострадание и любовь к ближним, через воссоединение с человечеством, с почвой. Это, в свою очередь, пробуждает главный оздоровительный источник — открытость души Христу и Его благовестию. История Раскольникова напоминает нам, что и смертный грех искупим для покаявшегося и обращающегося ко Христу.
Роман «Преступление и наказание» является решающим этапом творческого и мировоззренческого самоосознания Достоевского. В художественной форме он исследовал и обобщил свой духовный опыт и вполне осознал его итоги. Роман не является автобиографическим произведением, но судьба Раскольникова духовно близка событиям в жизни самого Достоевского. Как и герой «Преступления и наказания», Достоевский «происходил из семейства русского и благочестивого». «Мы в семействе нашем узнали Евангелие чуть ни с первого детства… Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным», — вспоминал Достоевский. «Вспомни, милый, как ещё в детстве своём, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» — писала мать Раскольникову. Отпадение от истинных корней жизни началось у Достоевского тоже с отвлечённой мечтательности: «Юность Достоевского прошла под знаком романтического «мечтательства», шиллеровского идеализма и французского утопического социализма» (К.В. Мочульский). Достоевский также был заражён современными ему носящимися в воздухе идеями. «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой доски», — писал он из омской ссылки.
В кружке Петрашевского Достоевский проходил этап созревания собственной идеи, служению которой посвятил многие годы. Чиновник по особым поручениям министерства внутренних дел Липранди писал в своей докладной записке по делу петрашевцев: «В большинстве молодых людей очевидно какое-то радикальное ожесточение против существующего порядка вещей, без всяких личных причин, единственно по увлечению «мечтательными утопиями», которые господствуют в Западной Европе и до сих пор беспрепятственно проникали к нам путём литературы и даже самого училищного преподавания. Слепо предаваясь этим утопиям, они воображают себя призванными переродить всю общественную жизнь, переделать всё человечество и готовы быть апостолами и мучениками этого несчастного самообольщения». Эта характеристика распространяется и на мировоззрение Достоевского того периода. Несчастное самообольщение — горестное и точное определение того, что пережили и автор, и герой романа. Эта болезнь ума содержала два главных мотива. Во-первых, социальный утопизм, протест против несправедливости и защита униженных и оскорбленных, что было темой всех ранних произведений Достоевского. Но та же рационализация живой жизни заставляет видеть действительную жгучую проблему в искаженной перспективе и формирует чувство маниакального мессианства и ложного миссионерства (апостолы и мученики), подводящих к преступной черте.
Кроме общества Петрашевского, которое было легальным и о собраниях которого знал весь Петербург, Достоевский примкнул к тайному радикальному кружку Дурова и играл в нём ведущую роль. Кружок ставил перед собой задачу готовить народ к восстанию, а для пропаганды революции организовать тайную типографию. Члены этого тайного общества намерены были действовать решительно, не останавливаясь для достижения своих целей перед крайними мерами. «Когда распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представляющийся случай решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное открытое участие в восстании и драке», — говорилось в «обязательной подписке» кружка Дурова, которая, очевидно, разделялась и Достоевским. В постановлении общества было записано, что «должно включить в одном из параграфов приёма угрозу наказания смертью за измену; угроза будет ещё более скреплять тайну, обеспечивая её». Так Достоевский внутренне пережил возможность убийства человека за идею. Последние слова приведенной «подписки» удивительно напоминают «Катехизис революционера» Нечаева. Достоевский признавался впоследствии в своём преступлении: «Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае, если бы так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было, как бы это могло так обернуться дело? Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы… во дни моей юности». В конце жизни Достоевский говорил Д.В. Аверкиеву, что «петрашевцев и себя в том числе полагает начинателями и распространителями революционных учений».
Достоевский на собственном опыте узнал, что страдание — великая вещь, что оно необходимо для духовного оздоровления. Многие соратники Достоевского не выдержали заключения в крепости. Двое сошли с ума, двое других намеревались покончить с собой. Впоследствии писатель рассказывал Вл.C. Соловьеву: «Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трёх дней не выдержу, и вдруг совсем успокоился». Но путь перерождения Достоевского, как и его героя, мучительно долог и крайне противоречив. «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений… История перерождения убеждений, — разве может быть во всей области литературы какая-нибудь история более полна захватывающего и всепоглощающего интереса? История перерождения убеждений — ведь это и прежде всего история их рождения. Убеждения вторично рождаются в человеке, на его глазах, в том возрасте, когда у него достаточно опыта и проницательности, чтобы сознательно следить за этим глубоким таинством своей души» («Дневник писателя»).
Воспоминания Достоевского напоминают внутренние состояния Раскольникова на каторге. Физические страдания и выключенность из потока внешних событий способствуют глубоким душевным превращениям. «Вечное сосредоточение в самом себе, куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд таких, об которых я и не думал. Но это все загадки и потому мимо…» (Письмо к брату). «Помню, что всё это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение… Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал всё до последних мелочей, вдумывался в моё прошлое, судил себя неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда моё сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде… Я ждал, я звал поскорее свободу, я хотел испробовать себя вновь на новой борьбе… Свобода, новая жизнь, воскресение из мёртвых. Экая славная минута!» С этого только «начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью». Этот переход из мира идеологических иллюзий и фикций в мир реальных духовных ценностей проходит медленно и болезненно. Ещё долгие годы Достоевский изживал свои идейные заблуждения.
Как и для героя романа, для писателя первым шагом к духовному воскресению было тесное общение с простым народом и открытость ему: «От народа я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме ещё ребёнком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в „европейского либерала“» («Дневник писателя»). Духовное исцеление означает встречу со Христом — в судьбу Раскольникова Достоевский вложил этот итог собственного катастрофического жизненного опыта. Достоевский был на той же грани, что и Раскольников, но спасся, не переступив её. Это дало ему огромный человеческий опыт. Но Достоевский осуществляет и опыт художника: он заставляет Раскольникова переступить. Писатель ставит эксперимент: что было бы с ним самим, если бы он переступил.
Никто так не способен разоблачить зло, как человек, им переболевший и возродившийся. Заразившись ложными идеями, носящимися в воздухе, Достоевский был не оригинален. Постепенно все интеллигентное общество, олицетворяющее ум нации, проникалось новыми духами. Многие сильные люди так и не освободились от них, но всё более усугублялась их болезнь, и всё большее число людей подвергалось ей: «Факты показывают нам, что болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы воображали, и что Белинским и Краевским и прочими дело не ограничивалось» (Письмо Майкову по поводу «Бесов»). Достоевский был оригинален в том, что, дойдя до края и заглянув в бездну, он изжил это увлечение и сумел вынести уникальный опыт. Его видение стало пророческим. Он не превратился в праведника, но обрёл чуткость в опознании духов зла. Достоевский сумел разглядеть в зародыше и описать трихину духовной болезни, которая поразит в будущем Россию и весь мир. В образе Раскольникова он описал последовательное усугубление идейной болезни и те её периоды, которые роковым образом раскроются впоследствии. Это не значит, что Достоевский буквально предсказывал будущее, но ему на индивидуальном опыте удалось вскрыть общую закономерность, которая развернулась в будущих судьбах людей, обществ, народов.
Достоевский чётко сознавал свою историческую миссию: «Писатели наши высокохудожественно изображали жизнь средне-высшего круга (семейного). Думали, что изображают жизнь большинства. По-моему, они-то и изображали жизнь исключений… Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагедия состоит в сознании уродливости… Только я один героя вывел из трагедии подполья, состоящей в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и невозможности достичь его, а главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все… [неразборчиво], а стало быть, не стоит и исправляться. Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награда ни от кого, вера ни в кого?.. В этом убедятся будущие поколения, которые будут беспристрастны, правда будет за мною. Я верю в это» (Из записных книжек к «Подростку»).
Жизнь сложилась так трагически, что у нас нет никакого права не услышать и не опознать того, о чем говорил Достоевский. Называя духовную болезнь разрушения, поразившую Россию, общим словом «анархизм», Достоевский писал: «Считаю задачу мою (разбитие анархизма) гражданским долгом» (Из письма к Победоносцеву).
Итак, в судьбе метафизического героя романа «Преступление и наказание» описывается духовный опыт самого Достоевского. Вместе с тем, в этом индивидуальном судьбе героя отражены мучительные духовные коллизии русского образованного общества, России в целом.
О том, что Достоевский так и мыслил своего героя, может говорить толкование его фамилии, имени и отчества. По предположению литературоведа С.В. Белова, Раскольников Родион Романович символизирует: раскол родины Романовых. Раскол же означает, с одной стороны, раздвоение, расщепление, распадение единства души России, с другой стороны — раскольничество как одержимость одной идеей, фанатизм, которому всё более подвергалось русское интеллигентное общество. Персоналист и реалист духа, Достоевский пережил и поведал о нашей трагической духовной судьбе. Мы живём во время безвременья, когда разрушена связь времен. Но мы не в безвоздушном пространстве, а кровно связаны с тем, над чем мучились великие наши классики. Восстановить духовное единство личности, нравственную вменяемость, здоровое сознание, жить и иметь будущее мы сможем только в том случае, если в нас оживет наше прошлое — в осознании его и ответственности за него.
Великий гений Достоевского открывает нам, что не может быть, чтобы такого рода духовные переломы в прошлом, которые произошли с нашим народом, не подготавливали новые процессы в нашей душе. Напряженное творчество Достоевского — это предчувствие может быть предвестником будущего перелома в жизни, будущего воскресения, будущего взгляда на жизнь. Но мы получим залог духовного возрождения только тогда, когда великое духовное наследие русской культуры станет содержанием нашей исторической памяти и самосознания.
________________
[1] Полифония — многоголосье: одновременное гармоничное сочетание и развитие нескольких самостоятельных линий, голосов; монолог — речь действующего лица, выключенная из разговорного общения персонажей и не предполагающая непосредственного отклика, в отличие од диалога.
[2] Синдром — сочетание признаков, имеющих общий механизм возникновения и характеризующих определенное болезненное состояние.
[3] Модус — образ, способ существования, вид и характер бытия.
Читайте также: