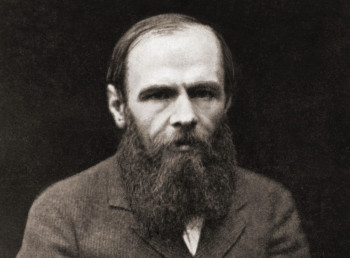В наследии Достоевского имеет место оригинальное толкование искушений дьяволом Христа в пустыне (Мф 4:1-11; Лк 4:1-13). В последний период своего творчества писатель постоянно обращается к этой теме. При всех противоречиях религиозно-философской мысли писателя, она все-таки представляет собой определенную систему, поддающуюся как культурологической, так и богословской классификации. В предыдущих работах данного цикла были рассмотрены пелагианские тенденции антропологии этой системы. Теперь, на примере особенности толкования Христовых искушений у Достоевского, можно проследить достаточно отчетливо выраженный дуалистический (гностическо-манихейского толка) характер его онтологии.
Святоотеческое толкование
У святых учителей Церкви в экзегезе искушений Христа можно выделить два положения.
Первое и самое существенное, имеющее догматическое значение, — это непосредственно касающаяся «домостроения спасения» функция преодоления этих искушений Христом как «новым Адамом», локальная победа божества в Богочеловеке над властью греха над человеческим естеством с «присвоением заслуг» последнему. «…через преступление [Адама] вошел в естество человеческое грех, а через грех — страстность по рождению… посредством них [страстей] действовала всякая лукавая сила, по страстности естества побуждая волю через естественные страсти [обратиться] к тлению неестественных страстей. Стало быть, Единородный Сын Божий и Слово, став по человеколюбию [Своему] совершенным Человеком, чтобы избавить естество человеческое от этой лукавой безысходности, воспринял безгрешность по происхождению от первого устроения Адама и имел ее без нетления; а от рождения, введенного впоследствии грехом в естество, воспринял одну только страстность, без греха. А поскольку лукавые силы оказывали, по причине греха, на страстность Адамову [различные] воздействия, невидимо сокрытые в принудительном законе естества, то они, разумеется, созерцая по причине плоти в Спасителе Боге естественную страстность Адама и полагая, будто и Господь, как простой человек, с принудительной необходимостью навлек на Себя закон естества, а не движется самоопределением воли, напали на Него, надеясь убедить и внедрить в Его воображение посредством страстей естественных страсти неестественные, а тем самым сделать что–либо угодное им. Он же при первом испытании [путем] искушений наслаждениями, позволив им поиграть своими кознями, совлек их с Себя и изверг из естества, [Сам] оставшись недоступным и недосягаемым для них, конечно, нам, а не Себе, приписывая победу и преподнося, как Благий, все достигнутое Им тем, ради кого Он стал Человеком. Ибо Сам Он, будучи Богом, Владыкой и свободным по естеству от всякой страсти, не нуждался в искушении, но [допустил] его для того, чтобы, приманив [к Себе] нашими искушениями лукавую силу, поразить ее [одним] соприкосновением [с Собою], умерщвляя ту, которая рассчитывала погубить Его, как в начале [погубила] Адама. Так совлек Он с Себя при первом искушении напавшие [на Него] начала и власти, далеко прогнав их от естества [человеческого], исцелив страстность [его] в отношении к наслаждению и изгладив в Себе рукописание (Кол 2:14) Адамово, [состоящее] в добровольном согласии на страсти наслаждения; в силу этого рукописания человек, имея волю, склонную к наслаждению, даже молча возвещал делами лукавую деспотию над собой, из страха смерти не освобождая себя от ига наслаждения. Итак, Господь, подвергнувшись первому искушению наслаждениями, истощил лукавые силы, начала и власти… Стало быть, Господь совлек с Себя начала и власти при первом испытании искушениями в пустыне, исцелив страстность всего естества в отношении к наслаждению»[1]. «Итак, Христос все воспринял, чтобы все освятить. Он подвергся искушению и победил, чтобы нам приготовить победу и дать природе силу побеждать противника, дабы естество, некогда побежденное, победило победившего некогда посредством тех нападений, посредством коих само было побеждено. Лукавый приразился ко Христу совне, и не через помыслы, как и к Адаму, ибо и к тому он приразился не через помыслы, но через змия. Господь же отразил приражение и рассеял, как дым, чтобы страсти, приразившиеся к Нему и побежденные, сделались и для нас легко одолимыми, чтобы (таким образом) новый Адам исцелил ветхого»[2]. Противопоставление искушения «совне» искушениям «через помыслы» показывает принципиальную разницу искушений Богочеловека, как и Адам до грехопадения, свободного от греха, и человеческих искушений, когда борьба с грехом происходит уже в самом человеке.
Второй момент, непосредственно из первого вытекающий, это то, что называется «нравственным приложением догмата», то есть духовно-практический вывод для повседневного исповедования веры. «Тот, Кого трепещет всякая тварь небесных, земных и преисподних, содержимых под властью диавола, Тот, Кто дал нам власть попирать диавола, Тот благоволил сорок дней и сорок ночей продолжать пост, а потом быть искушенным от диавола. Имел ли нужду в посте Бесстрастный? Упокоению всех труждающихся должно ли было утруждаться? Для чего жаждал многообильный Источник, претворивший воду в вино, источающий реки живых вод из чрева верующих в Него? Конечно, Он хочет нам показать этим пример и образец жития, чтобы, упражняясь в том же, избавились мы от злокозненности диавола и достигли вечного Царства Христова»[3]. «Ибо Сам Бог будет для них вождем и защитником и пойдет впереди для отыскания им места успокоения. Потому–то Христос первый, ради нас и за нас, противопоставил Себя древле побеждавшему сатане, прошедши пост и искушение в пустыне, дабы мы имели покой, видя сатану побежденным, падшим и поверженным под ноги наши»[4]. «Итак, природа человека, променявшая (на удовольствие) благодать Божию и обнаженная уже от первоначальных благ, изгнана из рая сладости, тотчас же превратилась в безобразную и потом оказалась подпадшею разрушению.<…> недостаток даров Божиих есть не что иное, как потеря всякого добра. И человеческая природа весьма легко подпала бы увлечению ко всему нелепому, если бы не удерживала ее в добродетели благодать Спасающего, обогащая ее вышними, от нее происходящими благами»[5].
Толкование Достоевского
В экзегезе Достоевского этого евангельского эпизода нужно отметить, прежде всего, полную независимость от церковной. В частности, характерно отсутствие ортодоксального сопоставления с первородным грехом прародителя, не устоявшего в аналогичном искушении «хлебами» (что можно рассматривать и как очередное проявление пелагианства, но отрицание первородного греха свойственно и всему спектру гностицизма, причем в еще более искажающей догмат форме)[6]. Архетипичность ситуации (искушение «всечеловека» демоном) переносится из прошлого рода человеческого в его настоящее и будущее, где «нравственное приложение» оказывается или равнозначным подвигу Богочеловека, или даже более значимым. Как «образованный грек не мог понять, почему мелким незначительным эпизодам библейской истории придавалось религиозное значение»[7], так и образованный русский мог понять только «нравственное», но не догматическое значение этих эпизодов. Одним словом, отсутствует принципиальное различие между искушением Богочеловека и человека вообще (следовательно, и различие искушений «совне» и изнутри отсутствует). Отсюда эсхатологизм (религиозность) переживания лишь настоящего и ближайшего для экзегета будущего, где решается самый насущный для его онтологии вопрос завершения развития цивилизации, в которой, как в человеческой природе, борются два начала: божественное, или «братское» (христианство), и животное, в свою очередь представленное двумя модусами: «хищное», или эгоистическое (либерализм), и стадное как псевдо- или полубратское (социализм).
Основные положения манихейства, на наш взгляд, лучше других сформулированы в следующем исследовании. «Философский идеализм, выразившийся в осознании несоответствия действительности искомому идеалу <…> не исцелил, а напротив, углубил в нем мучительное состояние нравственного раздвоения и разлада. Отсюда зарождается то пессимистическое настроение, которое в скором времени находит себе выражение в манихействе <…> Обращаясь от мрачной глубины субъективного сознания к созерцанию объективной вселенной, он <…> переносит в объективный космос свои внутренние противоречия. Внутренняя борьба, которую он находит в самом себе, гипостазируется для него как борьба двух объективных мировых начал, как противоположность двух враждующих субстанций, доброй и злой. Вглядываясь внимательно в манихейство, мы убедимся, что эта религиозно-философская система, в особенности в западной ее форме, <…> есть не что иное, как своеобразный пессимизм того времени. Это прежде всего, по словам проф. Гарнака, „последовательный, резкий дуализм в форме фантастического умозрения о природе“. Весь мир, по учению манихеев, есть результат случайного соединения доброго и злого начал, света и мрака, которые понимаются материалистически, как две вещественные субстанции, как физический свет и мрак, ворвавшись в царство света, князь мрака, сатана, пленил часть световой субстанции. Возникновение всего существующего: неба с его светилами, земли и всего живущего на ней обусловлено этим пленением частиц доброй световой субстанции, которые стремятся освободиться от оков злого начала, сатаны, их пленившего, и воссоединиться с царством света, от которого они были насильственно отторгнуты. В этом освобождении заключается конечная цель творческого процесса, конечная цель развития мироздания. Таким образом, в манихейской системе, в сущности, зло активно, добро же лишь пассивно: роль его сводится к чисто пассивному самосохранению, самообороне против наступающей силы зла. Добро может и должно в конце концов совершенно освободиться от зла, свет должен отделиться от мрака; но зло неуничтожимо, оно одинаково вечно с добром, и светлое царство не в состоянии его совершенно преодолеть и превратить в себя. Этическое настроение, соответствующее дуалистическому характеру системы, есть пессимизм, — последовательный, которое кладет раздвоение, непримиримую и вечную вражду в основу всего существующего. Мир, как двойственное порождение добра и зла, есть нечто противоречивое, ложное, подлежащее упразднению. Практическая задача человека в мироздании сводится к разрушению этого ненормального соединения посредством аскетического подвига. В человеке борьба мировых начал достигает крайнего своего напряжения, — он есть двойственное существо <…> в нем, следовательно, оба враждующих элемента достигают высшего своего земного средоточия. Отдаваясь плотским страстям, эгоистическому самоутверждению, человек поддерживает пленение световых частиц; путем питания и естественного размножения он служит целям злого начала, приковывая добро к царству мрака новыми узами и передавая ненормальное соединение из поколения в поколение. Напротив, путем аскетического самоумерщвления и самоотрицания, постом и воздержанием он может и должен содействовать высвобождению плененных частиц света. Но эту высшую свою практическую задачу человек может совершить лишь поскольку он просветлен познанием. Задача познания, гносиса, состоит в том, чтобы уяснить человечеству коренную ненормальность существующего, основное противоречие вселенной, и тем самым подготовить акт самоотрицания, самоуничтожения мироздания посредством аскетического подвига человека»[8].
Преимуществом этого определения является то, что в нем раскрыта психологическая мотивировка манихейства как проекции в онтологию личной духовной раздвоенности («рассечения» естества грехом, по выражению св. Василия Великого). Поэтому к манихейству как системному дуализму и христианизированному синкретизму гностического типа можно прийти не обязательно через зороастризм, как сам Манес (Мани), но и через другие языческие космо- и теогонические диалектические доктрины (например, через платонизм, как оригенизм[9], или через романтизм и шеллингианство, как почвенничество[10], или через спинозизм, как гегельянство и либерализм «западников»)[11]. Этим объясняется то, каким образом практически все перечисленные отличительные признаки «классического» манихейства оказывается вдруг свойственными мировоззрению Достоевского. Ими-то в значительной степени и обусловлено его толкования Христовых искушений.
На другой источник манихейства у Достоевского (помимо общего для западного романтизма и либерализма дуализма, так или иначе проявляющегося и уходящего культурно-историческими корнями в те же «классические» ереси гностического, язычески-рационалистического типа) косвенно указывает следующее обстоятельство.
Впервые круг вопросов, в котором у Достоевского находятся искушения Христа дьяволом, очерчивается в известном монологе Мышкина о «католичестве как нехристианской вере». Здесь же герой, выражая одну из самых сокровенных формул Достоевского («кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет»), оговаривается: «Это не мое выражение. Это выражение одного купца из старообрядцев, с которым я встретился, когда ездил». Если здесь еще можно подставить под сомнение тождество воззрений автора и его героя, то уже несомненным фактом является влияние другого старовера на Достоевского, а именно, богослова-самоучки К.Е. Голубова, учение которого легло в основу всей богословской составляющей «Бесов»[12]. Теперь сопоставим это со свидетельством другого исследователя о наличии прямых манихейских корней уже старообрядчества: « От манихеев-богомилов произросли тайные секты хлыстов-скопцов и псковские „стригольники“, первое упоминание о которых в 1376 г. можно считать началом „раскола стригольников“ [митр. Макарий (Булгаков), История Русской Церкви, кн. III], или, если учитывать его природу, раскола манихейского. После казни основных зачинщиков, как это обычно бывает, сектанты ушли в подполье и распространились в пределах Пскова и Новгорода. <…> Все это продолжало существовать и в XVII в., а после „старообрядческого“ раскола, основную массу которого составили богомилы-беспоповцы, тайные манихеи-язычники и хлысты, все компоненты этой „народной религии“ сохранялись в общинах староверов и через них передавались последующим „волнам“ сектаторов и раскольников»[13]. Сам факт такого повышенного интереса Достоевского к «народной религии», его общая для романтиков падкость до всякого апокрифического мистицизма как альтернативного «христианства», конечно, не является случайной. Такие сближения, как правило, говорят об изначальной духовной близости, детерминированности («вдохновленности») общим источником из мира духов[14].
Теперь, чтобы во всем этом убедиться, рассмотрим толкования Христовых искушений у Достоевского в отдельности и по порядку.
«Идиот»
Первые упоминания «об искушениях Христа диаловом в пустыне (рассуждения)» мы встречаем в подготовительных материалах к «Идиоту»[15]. И хотя в окончательном тексте романа нет непосредственно этих «рассуждений», однако весь тот комплекс понятий и алгоритм идей, в котором у Достоевского неизменно будет находиться толкование Христовых искушений (а именно: «католицизм» как «антихристианство», революционный «атеизм», «социализм», «русский Христос (русский Бог)», «обновление человечества»), здесь уже присутствует («О революции. О искушении Христа диаволом»)[16].
Первое, на что тут следует обратить внимание, это контекст ренановской «Жизни Иисуса» (одного из носящих эпидемический характер для своего времени «критических» переложений Евангелия, морально-метафизических вытяжек из него как адаптаций для либерального сознания), в котором находится толкование Достоевским евангельского события. «В Швейцарии — мы часто Евангелие читали, и я после книги Ренана спросил доктора про крест… <…> Рассказ о базельском Holbein Христе… <…> Об искушении Христа диаволом»[17]. Эта «швейцарская» христология, несомненно, становится одним из существенных экзегетических камертонов для Достоевского (вместо святоотеческой), задавая ложный вектор его мысли, который он так и не смог существенно повернуть, что-то принципиально иное ему противопоставить, несмотря на все старания.
Мышкин, как известно, в подготовительных материалах обозначается несколько раз как «Князь Христос»[18]. Христос же у Достоевского, как и у Ренана, это «идеал человека вековечный»[19]. Поэтому и Мышкин в окончательном тексте романа, перестав, конечно, обозначаться условным «христом», остается Человеком с большой буквы («Прощай, князь, в первый раз человека видела!» «Другому не сказал бы — засмеется или плюнет; но вы, князь, вы рассудите по-человечески». «Стойте так, я буду смотреть. Я с Человеком прощусь»)[20]. Последним таким истинным Человеком, который «носит в себе сердцевину целого» (то есть Христа как плененную телом частицу световой субстанции, «а остальные люди его эпохи — все каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались»)[21], среди героев Достоевского будет Алеша Карамазов.
Таким образом, этот вопрос имеет самое непосредственное отношение к богословию, к пневматологии и христологии, в частности, и, конкретно, к таким их понятиям, как «единство человеческой природы», «ветхая природа», «воспринятая Богом Словом человеческая природа», «исцеленная Христом природа» и способ ее восприятия христианами от Христа как «нового Адама». Об этом говорит и сам «Князь-Христос» Достоевского. «[— Согласен, но всё это <…> принадлежит богословию…] — О нет, о нет! Не одному богословию, уверяю вас, что нет! Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете. В этом-то вся и ошибка наша, что мы не можем еще видеть, что это дело не исключительно одно только богословское!»[22]
Манихейское мироощущение сказывается здесь же в следующем рассуждении: «Природа мерещится при взгляде на эту картину [на картине этой изображен Христос, только что снятый со креста] в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, — в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо — такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчинено, и передается вам невольно»[23].
Что же касается непосредственно исследуемого вопроса, то вот его основные тезисы как составляющие того стабильного, повторяем, контекста, в котором мотив искушений у Достоевского находится. «…католичество вера нехристианская [противоположная, антихристова]», потому что «променяло все за земную власть», пало на «третье искушение диавола». Поэтому из этой ложной веры «вышел атеизм» как «порождение их лжи и бессилия духовного». «…у нас не веруют еще только сословия исключительные, а в Европе, уже страшные массы самого народа» (однако потому, что субстанция света никогда полностью не погашается субстанцией тьмы), «в тамошней [антихристивой] церкви» (тем более — в народе) «тоже есть представители, достойные всякого уважения и добродетельные…» Наконец, «и социализм — порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном», «чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием!» Если католичество есть антихристианство, то его «противоположность в нравственном смысле» будет опять христианством «в нравственном смысле», а именно, социал-христианство, пусть и с издержками «насилия», но все же несомненный шаг вперед «в нравственном смысле», и значительный, в сравнении с католичеством. Тем не менее (очередным антитезисом) и социализму «нужен отпор»; «надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили» (не искусившись ни на что диаволово); «нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними». Опять же, и русские, и западные ренегаты пали лишь по недоразумению и временно: «Не из одного ведь тщеславия, не всё ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а и из боли духовной, из жажды духовной» (голода в пустыне жизни), «из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали!» (а стоит только узнать это «высший» гнозис — сразу все поклонятся ему как своей первой природе). «Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче чем всем остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда!» Поэтому в конце истории неизбежно воссияет всему миру «русский Свет», вырвавшись из пленившей его темной материи, «это сокровище, сокрытое от него в земле» (в самом человеческом естестве). «…в будущем обновление всего человечества и воскресение его одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом».
«Бесы»
Подготовительные материалы к «Бесам» продолжают раскрывать нам внутреннюю механику богословия Достоевского. Сразу обращает на себя внимание та же, мягко говоря, неортодоксальная христология: «Вы [нигилисты] отрицатели Бога и Христа… <…> Вы судите Христа и смеетесь над Богом»[24]. Христос и Бог здесь, как минимум, не совсем одно и то же. «Христос есть отражение Бога на земле»[25], а не Его полнота. Подтверждается это следующим рассуждением. «Устраняя Христа, вы устраняете непостижимый идеал красоты и добра из человечества. На место его что вы предлагаете равносильного?»[26] Такая постановка вопроса является не столько апологией Христа как недосягаемого (божественного по природе) совершенства, сколько допущением возможности «предложить равносильное [Христу]» со стороны «искателей Бога» (в данном случае — нигилистов-атеистов, ибо они, по Достоевскому, тоже из их числа)[27]. То же самое «апологически» преподнесенное маловерие (или иноверие) мы помним еще по раннему «символу веры» Достоевского («если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа…»)[28]. Таковы законы неизбывной противоречивости всякого онтологического дуализма, его внутреннего декадентского самоотрицания. Поэтому и сам Достоевский одновременно с апологией Христа, только и занимается тем, что пытается «предложить равносильное Христу» в образах Мышкина, Шатова, Алеши Карамазова и других предтеч Идеала Человека.
Отсюда принципиальный вопрос этой романтической эстетизации христианства (равно как и либеральной его морализации): если «идеальность красоты» Христа — это красота не «натуры Бога»[29], но «до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный»[30], то это означает, что эта красота («натуры Бога») внутреннее присуща человеческой природе (как «эманация»), и ей, действительно, можно предложить альтернативу, по крайней мере, попытаться повторить своими силами[31]. Это значит, что позиция романтика Достоевского (условно шеллингианство) принципиально не отличается от позиции либерала Т.Н.Грановского (прототипа Верховенского-старшего; условно гегельянства): «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? <…> я в Бога верую <…> как в существо, себя лишь во мне сознающее. <…> Что же касается до христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я — не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, — что так великолепно развила Жорж Занд в одном из своих гениальных романов…»[32] И сам Достоевский точно того же «древне-языческого» мнения не только о Занд, Гете и греках, но и о христианстве, о Боге и Его отношении к человеку: «Человек по великому результату науки идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к обобщению и их познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе…» (то есть в человеке, потому что) «Христос вошел во все человечество…»[33]
«[Надо] быть новыми людьми, начать переработку самих себя» (то есть «переработку себя» в Христа, по «образу и подобию» Его победы над искушениями). «Я не гений, но я однако же» (вроде Христос в пустыне) «выдумал новую вещь, которую никто, кроме меня на Руси не выдумал: самоисправление» (опять можно толковать и как пелагианство, и как гностицизм). «…если б все вознеслись» (как Христос) «до высот самообладания <…> не было бы <…> голодных…» «…Бог и царство небесное внутри нас, в самообладании…» (надо только, наконец, взять себя в руки, как Христос, и дать «богу и царствию небесному» в себе выйти наружу, «воплотиться» в идеальном общежитии). Надо думать, только цензурные соображения не позволили Достоевскому оставить в числе массовки романа православного «попика», который, как и папа Римский, «защищает Бога, а потом сознается, что не верует», потому что на беду свою «оторвался от народа»; тогда как «быть с своим народом — значит веровать, что через этот именно народ и спасется все человечество, и окончательная идея будет внесена в мир, и царство небесное в нем»[34].
При этом, как и положено в абсурде дуализма, путь к воцарению этого всечеловеческого братства лежит через армагеддон неминуемой «будущей войны из-за двух религий» (то есть из-за «русского народного» и западного «социализмов») между «Россией и Европой», где для всех станет очевидным, кому по праву мир спасать: «Дух войны и необходимость ее выйдут из-за веры как из-за новой идеи», словом, все из того манихейского «духа жизни (души живой)». Наконец, вновь появляется «римская блудника (ибо принял тамошний Христос земное царство, отвергнутое в пустыне)…» Но «русский Христос» (Бог, без остатка «воплотившийся» в русском народе) снова «сразится с антихристом, т.е. с духом Запада, который воплотится на Западе», и от этого случится «полное нравственное обновление»[35].
В окончательном тексте романа Достоевский вкладывает этот набор основных своих богословских тезисов в уста Ставрогина, которые пересказывает его «дальше пошедший» апостол Шатов (потому что Ставрогин — это как бы не состоявший «Князь-христос», как, впрочем, и Мышкин — тот тоже не до конца «сердцевину» человеческой природы сумел реализовать, слабоумием кончил, не сдюжив космических перегрузок превращения в бога). «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским»; «больше» того: «не православный не может быть русским». «Но вы еще дальше шли: вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала»[36].
Как мы видим, вопрос, как всегда, находится в контексте славянофильской (вернее — почвеннической) доктрины («— Я полагаю, что это славянофильская мысль. — Нет; нынешние славянофилы от нее откажутся», иначе почвеннику не с чем будет «дальше пойти» как со своим). Откровенно языческий культ земли («почвы»), вынесенный в само название доктрины Достоевского, пожалуй, ее самая ярко выраженная «манихейская» черта. «Даже ходить по земле, согласно манихейскому учению грешно, так как человек при этом попирает Душу живую. <…> Это название [душа живая] всех живых тварей, которых при сотворении мира производит земля и вода (Быт 1:20-24)»[37]. Абсурдность этого учения заключается в том, что, с одной стороны, будучи проявлением отрицательного (демонизированного, материального, «великогрешного») начала, с другой стороны, «сама земля русская» оказывается «вдруг» источником «русского Христа», «русского бога», русского народа как «тела божия».
Оппозиции русского и европейца, православного и католика, христианина и атеиста, Христа и антихриста, определяются отношением к «дьяволову искушению», «поддаться» которому — и значит перейти из первой категории во вторую, превратиться в полную противоположность; а не поддаться — значит… совершить обратную метаморфозу. Сам факт перерождения, качественного преображения, оставляет возможность и переворота вспять: если христианство (как западное, так и «высшее» его состояние, «русский Христос», в отдельных «великих» ипостасях) может становиться «антихристианством», «смрадным богом» «западного мира», то что же мешает и этому «антихристу» со временем в «русского Христа» съэволюционировать? «Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца» (то есть до Идеала) «и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, „реки воды живой“, иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. „Искание Бога“ — как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. <…> У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро <…> напротив, всегда позорно и жалко смешивал; <…> В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества <…> это деспот <…> пред которым всё преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему»[38].
«Деспот полунауки» (социализма и материализма), пред которым «преклонились», как перед «дьявольским искушением», народы Запада, и «искание Бога» как противоположное начало («сила»), пред котором преклоняются и верит как в истинного Бога передовой народ Востока, выходят из одного источника — сменяющих друг друга на авансцене истории народов как «родов» одного вида («природы»). Народы движутся «Духом жизни, или Богом», который есть «сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая», то есть отрицающая саму себя. Поэтому «Дух жизни» — это и «все те умы, которые по вековечным законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала»[39], и Христос как однажды, уже обретенный на путях этого же «вечного мирового беспокойства» Идеал Человечества Вековечный. Если «цель всего движения народного» «искание своего бога», а «когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать», то это означает, что грядущая экспансия «русского Бога» (понятия о добре и зле) в западный мир, это и есть «стирание различия между добром и злом», «позорно и жалко смешивать добро и зло», будучи «не в силах определить и отделить» их друг от друга собственным «полунаучным разумом». Поэтому и покоривший всех себе «деспот» (дьявол, антихрист, действующий в человеке через это начало) «исполняет» свою «должность», которая хотя и поносится как «второстепенная и служебная», но в конечном счете именно в результате всех этих «исканий» и борений не иссякает «дух жизни», «реки воды живой». Закравшееся, было, сомнение («вы Бога низводите до простого атрибута народности») разрешается теми же «жалкими» средствами тотального манихейского релятивизма: «— Низвожу Бога до атрибута народности? — вскричал Шатов. — Напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело божие. Всякий народ» (то есть именно этнос, а не церковный народ, как можно было бы православно домыслить за Достоевского) «до тех только пор и народ [тело божие], пока имеет своего бога особого <…> Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ [тело божие]…»[40] Фактическое неверие в догматы Православной Церкви под покровом всей этой горделивой неоязыческой натурфилософии и либерально-метафизической историософии («полунауки», полухристианства) тут же саморефлектируется Достоевским («— Я… я буду веровать в Бога»). Как есть «великие» индивиды (вроде гностических и манихейских «избранников», этого авангарда на поприще аскетического «очищения сердца», освобождения заключенного в душе «атома бога»)[41], так есть и «великий народ», наиболее других преуспевающий в этом же теогоническом процессе. А это, в свою очередь, и означает «все равно что вера нехристианская», «искаженного Христа проповедовать», «даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи»[42] (то есть язычества, в данном случае — манихейства, социал-христианства, причем того же, французского, типа, как романтического плода от того же «католического» древа).
Все эти потомки ветхого Адама («новые люди» Достоевского) «нравственно прилагают» пример Христова подвига — и хотя не становятся еще «полностью превращенными в Христа» (как Франциск Ассизский в его католическом житии), но, по замыслу автора, показывают путь, по которому «должно и может» (раз смогла одна человеческая Личность, носитель той же самой природы) идти само ветхое человечество, дремлющей в нем хтонической силой «субстанциального» волюнтаризма[43]. «…народ русский в огромном большинстве своем — православен и живет идеей православия в полноте, хотя и не разумеет эту идею ответчиво и научно. В сущности в народе нашем кроме этой „идеи“ и нет никакой, и всё из нее одной и исходит, по крайней мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим. Он именно хочет…»[44] А если хочет, то, значит, и может, будучи полноправным носителем Души живой, или «богоносцем»[45].
«Дневник писателя» за 1876 год
Принадлежность всех этих измышлений «насчет огромного значения нового фазиса православия»[46] (а именно, неопелагианства, неогностицизма, неоарианства) мировоззрению самого автора (а не намеренное их сочинение им для своих героев-изуверов) подтверждает уже публицистическая разработка Достоевским в «Дневнике» этих же самых идей.
«…римское католичество <…> не задумавшись, продало Христа за земное владение. Провозгласив как догмат, „что христианство на земле удержаться не может без земного владения папы“, оно тем самым провозгласило Христа нового, на прежнего не похожего, прельстившегося на третье дьяволово искушение, на царства земные <…> мне возражали, что вера и образ Христов и поныне продолжают еще жить в сердцах множества католиков во всей прежней истине и во всей чистоте. Это несомненно так, но главный источник замутился и отравлен безвозвратно. К тому же Рим слишком еще недавно провозгласил свое согласие на третье дьяволово искушение в виде твердого догмата, а потому всех прямых последствий этого огромного решения нам еще заметить нельзя было. <…> это Рим Юлиана Отступника, но не побежденного, а как бы победившего Христа в новой и последней битве. Таким образом продажа истинного Христа за царства земные совершилась. <…> Потеряв союзников царей, католичество несомненно бросится к демосу. <…> католичество бросится в демократию, в народ и оставит царей земных за то, что те сами его оставили. <…> всё подкопано и начинено порохом и ждет только первой искры <…> А нам то что, к нам же ведь и застучится Европа <…> И она потребует нашей помощи как бы по праву…»[47] Потому что «храним Христа», не поддавшись на искушения, как «прочие человецы», сознаем себя «первым» в мире народом, патентованным «тело божиим», и готовы его практически даром экспортировать (разве что за самую умеренную плату признания этого нашего над всеми первородства).
Второе обращение к тематике евангельских искушений имеет поводом самоубийство Н. Писаревой. «До странности занимают ее денежные распоряжения той крошечной суммой, которая после нее осталась <…> Эта важность, приданная деньгам, есть, может быть, последний отзыв главного предрассудка всей жизни „о камнях, обращенных в хлебы“. Одним словом, проглядывает руководящее убеждение всей жизни, <…> ужасно характерный и законченный катехизис тех убеждений, которым они предаются в жизни с такою верою (и несмотря на то так скоро все наскучивают и своей верою и жизнью), которыми они заменяют всё, живую жизнь, связь с землей, веру в правду; всё, всё. Она устала, очевидно, от скуки жить и утратив всякую веру в правду, утратив всякую веру в какой-нибудь долг; одним словом, полная потеря высшего идеала существования»[48]. Иными словами, трагедия Писаревой — это иллюстрация постулата «атеист тотчас же перестает быть русским» и вообще «перестает быть», «вымирает» так же, как и народ, потерявший «своего бога». Суицидом кончает и «новый человек» «безмерной высоты»[49] Ставрогин, и вообще в мире Достоевского настоящая эпидемия самоубийств. «Да правда ли, что русская земля перестает на себе держать русских людей? Отчего же жизнь рядом, тут же, бьет таким горячим ключом?»[50] Манихейское самоотрицание (взаимное вычитание, или обессмысливание противоположностей) тут сказывается в том, что духовное «преступление» самоубийства, в конечном счете, отрицается (оправдывается пагубной «средой» или даже романтизируется) здесь не меньше, чем в опровергаемом «катехизисе убеждений», «заменяющих живую жизнь»[51]. Поэтому и в этой «вере в правду и какой-нибудь долг» «проглядывает» тот же самый «руководящий предрассудок», род «социализма», идеализированная мистификация «человека-бога».
Письмо В.А. Алексееву
Письмо к Алексееву еще нагляднее атрибутирует как воззрения самого Достоевского религиозно-онтологического толкования искушений Христа его художественными персонажами, потому что содержит ответ на прямо поставленный вопрос: «что Вы хотите сказать <…> упоминая <…> слова из Евангелия о камнях, обращенных в хлебы. Это было предложено диаволом Христу, когда он его искушал…»[52] На что Достоевский отвечал столь же прямо: «В искушении диавола явились три колоссальные мировые идеи, и вот прошло 18 веков, а труднее, то есть мудренее, этих идей нет и их всё еще не могут решить» (то есть Христово «решение вопроса» универсально и актуально лишь по характеру, но не действию; богословски это принципиально). «„Камни и хлебы“ значит теперешний социальный вопрос, среда. Это не пророчество, это всегда было. <…> Вот 1-я идея, которую задал злой дух Христу. Согласитесь, что с ней трудно справиться. Нынешний социализм в Европе, да и у нас, везде устраняет Христа и хлопочет прежде всего о хлебе, призывает науку и утверждает, что причиною всех бедствий человеческих одно — нищета, борьба за существование, „среда заела“. На это Христос отвечал: „Не одним хлебом бывает жив человек“, — то есть сказал аксиому и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту, Христос же знал, что хлебом одним не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в себе и в слове своем нес идеал Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал Красоты; имея его в душе, все станут один другому братьями и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. Тогда как дай им хлеба, и они от скуки станут, пожалуй, врагами друг другу. Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят у человека труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего — одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один свет духовный. Доказательство же, что дело в этом коротеньком отрывке из Евангелия шло именно об этой идее, а не о том только, что Христос был голоден и дьявол посоветовал ему взять камень и приказать ему стать хлебом, — доказательство именно то, что Христос ответил разоблачением тайны природы: „Не одним хлебом (то есть как животные) жив человек“. Если б дело шло только об одном утолении голода Христу, то к чему было бы заводить речь о духовной природе человека вообще? И некстати, да и без дьяволова совета он мог и прежде достать хлеба, если б захотел. Кстати: вспомните о нынешних теориях Дарвина и других о происхождении человека от обезьяны. Не вдаваясь ни в какие теории, Христос прямо объявляет о том, что в человеке кроме мира животного есть и духовный. Ну и что же — пусть откуда угодно произошел человек (в Библии вовсе не объяснено, как Бог лепил его из глины, взял от земли), но зато Бог вдунул в него дыхание жизни (но скверно, что грехами человек может обратиться опять в скота)»[53].
Между тем, Христос, решающий «социальный вопрос» (потому что «это всегда было»), — это и есть «продажа истинного Христа за царства земные», пусть и выражается он не в «хлебах», в нравственном «идеале красоты». Ложность этого противопоставления в том, что в основе антитезиса («идеала красоты») лежит, по сути, тот же арианский «Иисус» просвещенного либерализма, то же самое полуязыческое представление о Мессии, тот же «Рим» Ренана «Отступника», лишь в иной форме, а именно, в форме типичной для романтизма неоманихейской эстетизации Христа[54]. Поэтому и в синтезе Достоевского получается «русский социализм» (именно «языческая фантазия» царства земного) вместо Царствия Небесного[55]. Диспут Христа с диаволом идет лишь о том, что дать сначала: Хлеб или Идеал Красоты в качестве «бесовской прелести». В дискриминации «хлебов» в толковании Достоевского, путем изуверского доведения до крайности, искажения смысла христианской аскезы, также усматривается параллель с гностическим вообще и манихейским, в частности, отрицанием материи (впрочем, в любой момент могущей обернуться противоположной крайностью — самым плотоядным материализмом, как «богатством» у Достоевского)[56]. «Мир духовный» (эманация сверхъестественного) обитает здесь именно внутри «мира животного» (противоестественного, греховного), а не исцеленного Христом человеческого как такового (естественного, или церковного). То есть Адам у Достоевского, как и у Ренана, был создан все-таки «скотом», «обезьяной»; и именно в эту «обезьяну» Бог (как сатана в классическом манихействе) «вдунул» «духовную природу», «идеал красоты»[57]. В этом и заключается единственное «разоблачение тайны природы», а именно, природы манихейства[58]. «Идея» человека-бога «вселяется» в «человека-скота». В историософии почвенничества это выражается в форме своего рода филогенетического теогонизма (опять же, общего для общеевропейского гностического идеализма того времени)[59]. «Так и избранники [в одной из этических глав „Кефалайи“]: они боги и представлены в подобии богов; божественность насаждена в них, снизошла к ним с высоты и вселилась в них»[60], и в скором времени «воссияет всему миру»[61].
Что же касается непосредственно толкования евангельского события, то такая степень искажения смысла, конечно же, не обходится без прямого искажения текста. В частности, чтобы выйти на свой «социальный вопрос», экзегету приходится «камень и хлеб» у св. ап. Луки («…напоследок взалкал. И сказал Ему диавол: <…> вели этому камню сделаться хлебом» (Лк 4:2-3)) безоговорочно предпочесть «камням и хлебам» у св. ап. Матфея (4:3), а также полностью опустить «второе искушение», произвольно объединив первое и третье. А чтобы провести свой гуманистический утопизм (в амплитуде от пелагианского представления о силе естественного добра в человеке, природной способности его во всем следовать «идеалу» и достигать нравственного совершенства[62], до общего для гностицизма антропотеизма, фактически отождествления «натур» и «воль»» Бога и человека), идеалист вынужден «слово Божие», которым «будет жить человек» (Лк 4:4), превратить в ренановский «идеал красоты». Конечно, «всякое слово Божие» прекрасно; но не всякий «идеал красоты» есть слово Божие; причем, по Достоевскому же, по которому «два образчика красоты»[63], и оба равно дороги сердцу человеческому, так что окончательно выбрать нет никакой возможности, несмотря на все заявленные мировые рекорды «самоволия» и «самообладания», так что приходится «синтезировать»[64]. Поэтому и о Шатове (этом «новом человеке», функционально заменившем Голубова, «переходном» звене эволюционной цепи от «обезьян» шигалевщины к «русскому Христу») сказано: «беспокойный, продукт книги <…> много красоты»[65]. То есть красоты манихейски смешанной, двусмысленной, христианской снаружи и «содомской» внутри (или наоборот). Ренановское толкование красоты Христа как идеального человека — это и есть если не Содом, то Вавилон антропотеизма, сублимированное идолопоклонство, разлившее свой яд духовного титанизма в сознании Достоевского. «Для того чтобы не быть привязанным ни к одной из форм, вызывающих обожание людей, нет надобности отказываться от того, что в них есть доброго и прекрасного. Никакое переходящее явление не исчерпывает божества; Бог открывался людям до Иисуса, будет открываться им и после него. Проявления Бога, скрытого на дне человеческого сознания, все одного и того же порядка, хотя они бывают существенно различны между собой, и при этом носят тем более божественный характер, чем более они велики и неожиданны. Поэтому Иисус не может принадлежать исключительно тем, кто называет себя его учениками» (то есть Церкви). «Он составляет гордость всякого, кто носит в своей груди сердце человеческое. Слава его заключается не в том, что он выходит за пределы всякой истории; истинное поклонение ему заключается в признании, что вся история без него непостижима»[66].
Евангельский Христос отвечал на искушения дьявола конкретным словом Божием (Втор 8:3; 6:13; 6:12), потому что именно конкретную заповедь Божию о плодах с конкретного древа нарушил Адам. Это и означает, что в толковании Достоевского, как в «беспоповских» толках и у либеральных антиклерикалов, отрицанию подвергается именно церковный авторитет Священного Писания и Предания как правильного его толкования. Иначе говоря, экзегет сам не выдерживает этого «искушения» (хотя, конечно, ничего иного от потомка «ветхого Адама», предоставленного самому себе, ни ожидать, ни требовать невозможно). Если «натуры» человека и Бога поставлены в один ряд, то, само собой, и «книги» Божии и человеческие (свои, в том числе) — тоже, как первоисточники «идеала красоты». Это, собственно говоря, и есть первичная мотивировка столь вольных обращений с Евангелием. «Что мечтаниями искушает диавол человека, это видно из искушения диаволом Богочеловека: диавол показал Господу все земные царства и славу их „в часе временнее“, то есть в мечтании. Ум наш имеет способность мышления и способность воображения; посредством первой он усвоивает понятия о предметах, посредством второй усвоивает себе образы предметов. Диавол, основываясь на первой способности, старается сообщить нам греховные помыслы, а основываясь на второй способности, старается запечатлеть соблазнительными изображениями. „…душа наша [говорит св. Исихий] увеселяется мечтательными прилогами диавола, — прельщаемая, прилепляется ко злу, как бы к добру, и перемешивает (соединяет) свои помыслы с мечтанием бесовского прилога“. Мечтание бесовское действует на душу очень вредно, возбуждая в ней особенное сочувствие к греху»[67]. Сочувствие социализму (социал-христианству) и либерализму (Ренану) у Достоевского — это как раз формы таких прельщений и происходящих от них собственных «синтезов», сублимированных «мечтаний»[68].
«Дневник писателя» за 1877 год
Первая глава январского номера «Дневника» самим своим названием («Три идеи») отсылает к архетипическим искушениям почвеннического Всечеловека. Здесь выстраивается оппозиция насильственного объединения западного мира во всех его формах (Древнего Рима, католицизма, протестантской общины, буржуазной республики, социализма) и «свободного» объединения по-русски, методом «наступающей славянской идеи». Первое — это результат падения западного христианства в «третьем искушении»; а второе, соответственно, противоядие от него. На деле же, не только «материал» единения как творческого оформления остается тот же самый (падшая человеческая природа с ее внутренним раздором греховных страстей), но и «методология» — ввиду исконной обусловленности нарождающейся «светом с Востока» спасительной «третьей мировой идеи» теми же самыми западными «мировыми идеями». Особенно явным это самоотрицание оказывается как раз в контексте «трех искушений Христа», потому что если они «выражали <…> в трех только фразах человеческих всю будущую историю мира и человечества»[69], а «третья мировая идея» («русский Христос») призвана эту «историю мира» завершать, вбирая в себя предыдущий опыт человечества, то получается, что она если не прямо выходит из той же «главы дьявола», что и первые две, то, по крайней мере, не без его деятельного участия рождается на свет.
И при другом раскладе этой манихейской «триады» Достоевского на выходе получается антиномия, а именно: если «первая идея» (тезис) — католицизм — есть антихристианство (диавол), а «вторая» (антитезис) — протестантизм — есть протест против этого ради того же «обновления человечества» и «возрождения мира», то формою этого же протестантизма (религиозного реформаторства, либерализации христианства) является и «третья (славянская) идея» (отсюда и тот же антикатолический, протестантско-раскольнический ее заряд).
«Мысль о том, что огромнейшая идея мира, идея, вышедшая из главы диавола» (то есть все из того же «начала разума» человеческого) «во время искушения Христова в пустыне» (то есть «из главы» одного манихейского человекобога, «раздвоенного» в самом себе на христа и антихриста)[70], «идея, живущая в мире уже органически тысячу лет, — эта идея так-таки возьмет и умрет в одну минуту — эта мысль принималась за несомненную. Ошибка, конечно, тут заключалась в религиозном значении этой идеи, в том, что два значения были перемешаны вместе…»[71] Здесь мы имеем дело с умеренной формой идеализации зла, общей для романтизма с его внутренним манихейством. Искушение диавола — это уже не злая воля, осознанное деструктивное произволение, но всего лишь «ошибка» ума, заблуждение, свойственное человеку[72]. Поэтому и отношение к нынешним носителям этой «идеи» как не устоявшим в искушении ею, французским «республиканцам», столь благодушное: «Предводители их отличались сдержанностью и необычным еще у них благоразумием. В сущности, однако, всё это люди отвлеченные и идеалисты». Падшие в республиканство французские католики — это то же, что и «оторвавшиеся от почвы» представители русского «верхнего слоя», то есть крипто- или протохристиане, носители той божественной искры в «чистом сердце», из которой возгорится всечеловеческое пламя духовно-нравственного подвижничества; те, от кого стоит ждать решающего импульса к перерождению человека в небожителя. Разница лишь в том, что первые «это либеральные, седые, но молодящиеся старички», которые «остановились на идеях первой французской революции, то есть на торжестве третьего сословия, и в полном смысле слова суть воплощение буржуазии». Вторые же — на пути развития этих же самых идей «еще дальше шли» и «веровали, что римский католицизм уже не есть христианство», «утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала»[73]. Вернее — сыскала, но ложного («смрадного») бога социал-утопизма, в котором последовательно разочаровалось «новое поколение» русских фурьеристов и социал-христиан. А следующее поколение пойдет еще дальше («дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может, если только… это действительно было покаяние и действительно христианская мысль»)[74], и перерастет и буржуазную республику, и скотский рай фурьеризма, еще больше жертвуя собой ради «идеала красоты». «…социализм обезличивает национальное начало и подъедает национальность в самом корне», тогда как «национальное» — это «тело божие». Поэтому окончательный «синтез» Достоевского — это именно «русский социализм», синкретическое единство взаимно «поедающих» противоположностей. «Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе церкви» («тела божия», вскормленного теми же превращенными в идеалы «камнями»). «Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский „социализм“ теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, по колику земля может вместить ее»[75]. Единственное отличие этого «великого, всеобщего, всенародного, всебратского [всечеловеческого] единения во имя Христово» от лютеранской общины, от буржуазного «муравейника», от фурьеристской утопии и пророчествуемой Достоевским «унии» католицизма и социализма, лишь то, что все эти так и не переваренные «каменные хлеба» «вышли из головы» самого Федора Михайловича. Принцип же и ингредиенты «единения» те же самые: псевдохристианские, самочинные, неоязыческие[76].
«Подросток»
Здесь место Ставрогина занимает Версилов, «великий (лучший, новый) человек», носитель «тайны», «великих идей», которыми воспламеняет новейшего (еще немного улучшенного) человека Подростка, как до этого Ставрогин — Шатова. «Великие идеи» все те же: «благообразие» («идеал красоты») и «бессмертие», то есть божественные акциденции, присущие человеку по природе (ввиду «духовного происхождения»), и лишь нуждающиеся в раскрытии, в реализации «во плоти» (а ля Иисус Христос). Схема достижения этой великой цели та же: эволюционно-историческая, не исключающая, впрочем, и революционных скачков, форсированных прыжков («вдруг») через несколько «ступеней» (из скота-буржуа — в божественный Идеал). «…обратить камни в хлебы — вот великая мысль.— Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь; скажите же: самая великая? — Очень великая, друг мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а только в данный момент великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас скажет: „Ну вот я наелся, а теперь что делать?“ Вопрос остается вековечно открытым»[77].
Тут же Достоевским рефлектирует и источник у себя этих «великих идей» (то есть Ренана и иже), в очередной раз пытаясь обрести независимость от него, как-то качественно трансформировать, конечно же, осознаваемые заимствования. «— Вы раз говорили про „женевские идеи“; я не понял, что такое „женевские идеи“? — Женевские идеи — это добродетель без Христа, мой друг, теперешние идеи или, лучше сказать, идея всей теперешней цивилизации». Но если даже «вышедшая из главы диавола» социалистическая идея «превращения камней в хлеба» является по-своему «великой», то либерально-идеалистическая «идея добродетели (человеколюбия) без Христа»[78] — тем более, по крайней мере, для своего «момента». Это и означает, что далеко от «женевского» метафизического антропоцентризма уйти не получается, потому что там ту же теогонию «мирового духа» (манихейской «живой души») исповедуют. Либерализму Ренана противопоставляется романтизм, условно, Шатобриана (Гюго и Занд); а индивидуализму либерализма вообще — «русский социализм»... Но что такое романтизм, если не правое крыло либерализма как левого крыла одного и того же титанического Икара? И что такое социализм — как не «общинная» форма демократии, противоположная крайность в становлении одного и того же «западного мира», по Достоевскому же? Поэтому «все наши русские разъединения и обособления, с самого их начала, основались на одних лишь недоумениях <…> и в них нет ничего существенного»[79].
Так, например, в письме к Н. П. Петерсону (24. 03. 1878) Достоевский противопоставляет Ренану уже философию Н.Федорова, то есть одному еретику — другого. И так всегда: если не Ренан, то Голубов; если не Голубов, то Федоров; если не манихейство (вечная борьба добра и зла), то уже своего рода оригенизм (всеобщее «преображение» как восстановление первоначального «единства»); что угодно, только не православие, как таковое, только не «официальная» («все равно нехристианская») вера Церкви. Слепая человеческая мысль бьется в сетях «миродержца», одну иллюзию освобождения сменяя другой, в полной уверенности, что сама способна спасти не то что себя, но и весь мир, потому что «богатырство выше всякого счастья, и одна уж способность к нему составляет счастье»[80]. А это и есть «добродетель без Христа», «благообразие» без благодати Божией и даже само «христианство» без Христа-Бога. Отсюда, как составляющая «богатырства» этого Человека Всемогущего, и его «игра с дьяволом» (то есть как Христос в пустыне): «Теперь я только играю с дьяволом, но не возьмет он меня»[81].
Окончательный манихейский «синтез» всех этих «великих идей» первого и второго сорта звучит из уст очередного «человека почвы» и проповедника «самообладания» Макара Долгорукого: «Деньги» (как и «хлеба») «хоть не бог, а всё же полбога — великое искушение; а тут и женский пол, а тут и самомнение и зависть. Вот дело-то великое и забудут, а займутся маленьким. То ли в пустыне? В пустыне человек укрепляет себя даже на всякий подвиг. Друг! Да и что в мире? — воскликнул он с чрезмерным чувством. — Не одна ли токмо мечта? Возьми песочку да посей на камушке; когда желт песочек у тебя на камушке том взойдет, тогда и мечта твоя в мире сбудется, — вот как у нас говорится. То ли у Христа: „Поди и раздай твое богатство и стань всем слуга“. И станешь богат паче прежнего в бессчетно раз; ибо не пищею только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившеюся бессчетно любовью. Уж не малое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь!»[82] (то есть этот же самый «мир сей» и приобретешь в совокупности его страстей: и хлеба, и идеалы, с процентами).
Запланированная в подготовительных материалах публичная лекция Версилова «о трех дьяволовых искушениях» («объяснение ЕГО: искушение Христово сорок дней в пустыне» (отдельная) «(глава)») с тем же противопоставлением «женевским идеям», «Прудону» («свобода Христова и [свобода] в коммунизме, равенство Христово и [равенство] 93 года»)[83], реализуется уже в следующем романе — в знаменитой легенде о Великом инквизиторе.
«Братья Карамазовы»
Уже на первых страницах черновых набросков к будущему роману мы встречаем отрывок, заключающий в себе привычный набор идей. «Высшая красота не снаружи, а внутри (см. Гете, вторая часть „Фауста“)» (вместо либерала Ренана теперь романтик Гете, лишний раз подтверждая, что это одна и та же антропотеическая нравственная эстетика, или все тот же гностический догмат безгрешности души как начала света). «Идиот» (тип Князя-христа, который здесь представляет Алексей, сама революционно-демоническая фамилия которого, производная от Каракозова, в сочетании с амплуа Идеального Человека и дают манихейского христа-антихриста, двух в одном), «идиот разъясняет детям о положении человечества в 10-м веке <…> разъясняет дьявола (Иов, Пролог); разъясняет искушение в пустыне; разъясняет о грядущем социализма; новые люди… <…> отрицательное <…> положительное <…> христиане»[84]. Словом, Идиот не покладая рук толкует слово Божие на правах Высшего Человека, пророка Синтеза жизни. В окончательном тексте романа значительная часть этой экзегезы, как всегда, будет передана условно «отрицательному» типу — Ивану, который (как Ставрогин и Версилов до этого, как Мефистофель у масона Гете и как демон у романтиков-манихеев вообще) тоже является полноправным рупором истины в этом диалектическом мире. По этой же причине толкование книги Иова находится в контексте искушений Христа: потому что, как и положено в спиритуалистическом монизме (как составляющей онтологического дуализма), искушения Христа и искушения Иова (и вообще всякого Великого Человека) — это практически равнозначные для «развития человечества» борения, по крайней мере, сопоставимые. Поэтому и сами искушения Иова в окончательном тексте толкуются старцем Зосимой в манихейском ключе — как борьба (за Иова) Бога и дьявола как другого олимпийского бога, подходящего Ему по силам противника: «И восходит к Богу диавол вместе с сынами Божиими», и «похвалился Бог диаволу, <…> указав на великого святого раба Своего», «усмехнулся диавол на слова Божии», «предал Бог своего праведника», «и поразил диавол <…> все вдруг, как Божиим громом»[85].
Неудивительно, что в легенде о Великом инквизиторе, этом плоде многолетних размышлений Достоевского об искушениях Христа, нашедших, наконец, художественную форму, их высказывает уже не столько Иван, сколько сам Великий инквизитор, кардинал-иезуит, то есть антихрист своего времени (по Достоевскому). Апология евангельского дьявола в легенде («бесподобный по силе и глубине», «могучий и умный дух»), по авторскому замыслу, выражает исторический переход на его сторону католицизма и вообще западно-христианской переродившейся цивилизации. Однако двусмысленность здесь заключается, с одной стороны, в том, что, по крайней мере, часть этих комплиментов западному (негативному) этапу развития «человеческой природы» постоянно высказывает и сам Достоевский, а тому же дьяволу — его идеальный герой (Зосима); а с другой — в том, что в меньшей степени эти же поношения звучат у него в адрес и православного клира[86]. Поэтому и эпитеты мировому злу используются те же, которыми определяется и «идеал красоты»: «великий», «вековечный», «абсолютный», «совокупляющий в одно целое…»[87]
Прямые параллели «поэмы» Ивана с мотивами произведений западных авторов (Кабе, Вольтер, Гюго, Шиллер, Гете, Штраус) отмечались многими исследователями[88]. Мы же еще раз отметим общий антиклерикальный дух «великодушных» либеральных отступников католицизма, протестантов, масонов, романтиков, левогегельянцев, с одной стороны, и русских манихеев-«беспоповцев» (людей «почвы») и почвенников — с другой. В появлении Христа в средневековой Европе у Достоевского нет ничего сверхъестественного точно так же, как не было его и в Самом евангельском Христе у Ренана и Штрауса, потому что всякий «добродетельный» человек есть актуализация божественного принципа «христа» в человеческой личности. Соответственно, в антиподе Идеала Человека демонизирована всякая верховная власть (государственная или церковная). В то время как реальный сатана и грех романтизируются, реальное христианство (Церковь) и его имперские институты (монархия) демонизируются. Если народ — это «тело божие», а власть враждебна народу (с точки зрения революционной идеологии либерализма), то враг бога (народа) — это, получается, и есть абсолютное зло. Поэтому и «самый теперешний социализм французский, — по-видимому, горячий и роковой протест против идеи католической всех измученных и задушенных ею людей и наций»[89], то есть следующая после протестантизма законная борьба с воплощением зла, а значит — проявление противоположного начала, то есть истинного христианства, высшей «человечности», лишь заблуждающееся в формах, в частности, в «гражданском строе».
Относительность добродетели и греха, неопределенность Христова и антихристова, размытость границ всех категорий в равной мере свойственны воззрениям Ивана и «испытуемого» им Алексея. Растекаясь своей манихейской мыслью по «древу познания добра и зла», автор наделяет этим релятивизмом и своего «страдающего» («по-своему любящего человечество») инквизитора-иезуита, и свое толкование благой вести Христа. Отсюда и единомыслие, которое носитель этой софистики Иван находит у «старцев» Достоевского (так же как Ставрогин — у Тихона и Версилов — у Макара), не только в отрицательной (критической в отношении католицизма), но и в положительной части своей программы по мироустройству, творческого поиска «нового фазиса православия». «…не церковь обращается в государство, поймите это. То Рим и его мечта. То третье диаволово искушение! А, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и вашему толкованию, и есть лишь великое предназначение православия на земле. От Востока звезда сия воссияет»[90]. Но от перемены мест слагаемых сумма не меняется, потому что превращение «государства в церковь» — это лишь эсхатологический масштаб все того же «алхимического» превращения человека-скота в бога, все та же теогония языческого рационализма, лжехристианский антропотеизм, одним словом, ересь как сугубое «диаволово искушение».
Заключение
У святых отцов аскетический подвиг победы над искушениями Христа в пустыне — это явление одного порядка, во-первых, с искушением и грехопадением Адама, то есть общее по характеру и противоположное по результату; а во-вторых — с аналогичными искушениями всех его потомков, где для христиан, благодаря их соединению с Христом по обновленному человеческому естеству, рождением от Него как от «нового Адама», и духовному укреплению Божественной благодатью, обретаемым в Таинствах Церкви, открывается возможность совершать аналогичный персональный подвиг (с тем же механизмом: силою Божией благодати и «присвоением заслуг» человеку). «Сатана, привлекая к самым кратковременным вещам <…> и по своей ненасытности подвергая благородный ум поруганиям и бесчинствам своим, связывает нас услаждением земными предметами. Он дошел некогда до такого безумия, что приступил с искушением к Самому Христу <…> — …но скажи, прошу тебя, какое может быть подкрепление или помощь потерпевшим? — Эта помощь, почтеннейший, — Бог и его благодать, которая не навсегда попускает изнемогшему уму быть под ногами диавольскими, но защищает и избавляет его, нисколько не могущего помочь себе самому»[91].
В толкование Достоевского определяющим является нецерковное понимание как природы человека, так и природы (природ) Христа, понимание, в свою очередь, принципиально не отличающееся от либерально-просветительского и романтически-метафизического и прямо от них происходящее.
«Две души», два «идеала красоты», априори существующие в человеке (прежде всего, в «ветхой» природе самого экзегета), сказываются и в Христе, поэтому Он и искушаем, как все. Не божественная и человеческая природа, во всем подобная нашей, кроме греха, «неслиянно» соединяются в божественной личности Иисуса Христа, но божественная природа (духовность) является априори присущей человеческой природе наряду с греховностью (телесностью), поэтому обе они в виде «смеси» оказываются свойственными и человеческой личности Христа, в которой только восторжествовало, наконец, божественное начало, одна из двух «душ», «субстанций», или «натур», полностью подавила другую[92]. Это и есть, прежде всего, проекция манихейской (философско-идеалистической, гностически-рационалистической, софистически-декадентской) пневматологии в христологию. Отсюда и «синтетическая натура Христа [и Бога]»[93] у Достоевского: она потому и синтетична, что вбирает в себя «все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле»[94], или естественные противоречия самой жизни, приводит их к «гармонии», каждому уделяет аспект своей благости, некую положительную функцию в общем становлении «души живой». Двойственность и противоречивость — это имманентное свойство бытия (а не следствия первородного греха, тления падшей природы, отлученной от Божественной благодати). Смерть — это необходимое проявление жизни (а не наказание за грех, «проклятие земли»). Человеческая «натура» — это «анализ», а божественная — «Синтез»[95]. Но это анализ и синтез одно и того же («духа», «субстанции», «природы», «живой жизни», «бесконечного», «Целого вселенной»)[96]. Поэтому и «Дух святый» здесь актуален только в человеке и «есть непосредственное понимание красоты, пророческое сознавание гармонии, а стало быть неуклонное стремление к ней»[97]. То есть «Дух святый» — это нечто еще только становящееся, пока незавершенное, как и «Христос», идеальный Всечеловек будущего. Почему так? — Именно потому, что еще не завершена эволюция человека, не все человечество еще теогонически преобразовано в Идеал Красоты; потому что человек и Бог — это, в конечном счете (или — «в идеале»), одно и то же[98]. Поэтому (и только в этом смысле) «кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет». Полный отрыв от церковной традиции при решении сложных богословских вопросов (тем более — опора на слышанное от «купцов старообрядцев» и западных эмансипированных «теологов») делает столь грубые искажения догматов у Достоевского неизбежными.
Соответственно, и «диавол» («бесы») — это лишь аллегория отрицательного полюса самой человеческой природы. То есть это двойственность не столько даже по принципу «служения двум господам» (Мф 6:24), сколько по принципу диалектического «единства противоположностей», которые обе — априори части единого целого (а именно, греха, «мира сего», падшего естества). Поэтому «иной высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает» со срамного нарциссизма и им же заканчивает, только возведенным в куб, до степени «идеала красоты». Поэтому именно «злое» (эгоистическое, плотоядно-животное, «хищное») начало в человеке путем исторической эволюции и саморазвития («прогресса») «вдруг» «превращается» (сублимируется) в «христианское», что не имеет никакого отношения к христианству, кроме демонической насмешки над ним. Как и в манихействе, активной является отрицательно заряженная «частица». Отсюда главенствующая роль типа Раскольникова, Ставрогина, Версилова, Ивана Карамазова, от которых, по Достоевского, произойдет «спасение» мира, то есть переход цивилизации на следующую (последнюю) ступень филогенетического развития — «русский социализм»[99].
Отсюда же онтологический статус западного либерализма и социализма как других «предпоследних ступеней до совершеннейшей веры»[100], как необходимого «ряда прогрессивных падений», буржуазно-индивидуалистического этапа «развития лица», «высшего экземпляра человека», или нигилистическо-коммунистического этапа развития гражданского строя, когда в зените «великих грехов» все становятся «вдруг» «христами», благодаря спасительному «расширению» на них действия «русской идеи». С одной стороны, социализм — это искушение общества «хлебами» и падение в этом искушении; с другой — «страстная вера [сравнивали с христианством]»[101] и революционный напор воли, который есть сила для дальнейшего поступательного движения истории. Поэтому и «идея», «вышедшая из главы дьявола», хоть и была искусительна, но, будучи выходящей и ныне из голов социалистов (этих «природных» полухристиан), не лишена своего позитивного исторического значения[102]. Иначе говоря, христианство и революция здесь — это общественно-исторические проявления доброго и злого начал, внутренне присущих бытию, а значит, и человеческой природе. Все это означает, что христианский социализм (французский социал-утопизм) «петрашевского периода» Достоевского лишь сублимировался в «русский социализм» в последний (славянофильский) период, но остался тем же теогоническим дуализмом, по существу. При этом внутреннее декадентство (пессимизм) манихейства сказывается здесь в противоположной, на первый взгляд, форме утрированного оптимизма, эсхатологически «фантастического» утопизма Достоевского, заранее готового на его оценку как «смешного».
Победа Христа над искушениями — это Его личная победа. Отвергнут богоустановленный (церковный) механизм передачи, «усвоения» обоженного естества нового Адама к его потомкам (христианам). Вместо Таинств и благодати Божией — или априорное «русское народное» обладание, или «великогрешное» усвоение рационалистическое («вселение в душу идеала», новые «убеждения», исповедование «великой идеи») и волюнтаристическое («самообладание», «высшее самоволие»)[103]. Человек, как Христос, находится в пустыне мира, и один, без помощи Божией, борет в себе змия-искусителя (и, разумеется, проигрывает в этой борьбе: об этом говорят финальный идиотизм Мышкина, самоубийство Ставрогина, неверие Шатова, попытка самоубийства и патологическая раздвоенность Версилова, наконец, многочисленные ереси самого Достоевского). Поэтому и до Христа были подобные «развиватели человечества», эманации Целого, эоны Света, героически боровшиеся в себе с «нижним полюсом» «натуры», хотя, конечно, никто не являл «идеал красоты» в такой полноте и «небесном блеске». Поэтому в одном ряду с этими искушениями находятся и духовно-нравственные борения нынешних (современных Достоевскому) «лучших людей»[104], пытающихся осуществить «великий подвиг» по примеру Идеального Человека, Мужа Совершенного, то есть явить добродетели, исходящие от «верхнего полюса» самой человеческой природы, каждым из самого себя черпаемые так же, как и Христом. В частности, «ступенью» к этому идеалу является волюнтаристический донос на себя (без внутреннего раскаяния) Раскольникова и аналогичная «исповедь» Ставрогина и Версилова. При этом двусмысленность («двойственность») этих пирровых «побед над собой», по мысли Достоевского, иллюстрирует лишь «переходный» характер текущего состоянии «цивилизации», еще только стремящуюся на следующую «ступень» (глобального торжества христианства, всечеловеческой «лепоты», quasi-церкви новейшего завета). Это «новые люди, выдержавшие искушение и решающиеся начать новую, обновленную жизнь»[105], но так ее и начавшие… Однако пророк Живой Жизни, окончательно решивший раскрыть все сокровенные тайны Целого Вселенной, от лица бывшего «архиерея» Тихона (этого немого укора архиереям правящим, всему «духовенству, ничего не делающему»[106] для истинного нравственного развития человечества), и это «намерение» вменяет им в «великую мысль», которой «полнее» христианство и «не может выразиться» («если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за намерение» простить себя и искание «страдания безмерного»[107] а ля Франциск, то есть искание искупительных жертв, аналогичной Христовой, потому что в этом спасение: нужно демиургом вытесать из себя, этой глыбы греха, Идеал Вековечный).
И вот, как и положено в диалектике, манихейские «противуположности сходятся»[108] — и Князь-христос с «князем мира сего», Великий Человек с Великим Грешником, Великим инквизитором и самым выдающимся из грешников Диаволом оказываются одним Двуликим Янусом, ипостасью, соединяющей в себе две природы расколотого в себе вселенского Целого. «После монастыря и Тихона Великий Грешник с тем и выходит вновь на свет» (как Христос из пустыни, как Алеша Каракозов из скита), «чтоб быть величайшим из людей. <…> он (и это главное) через Тихона овладел мыслью (убеждением): что, чтобы победить мир» (искушения), «надо победить только себя. Победи себя» (диавола в себе) «и победишь мир. <…> От гордости и от безмерной надменности к людям он становится до всех кроток и милостив — именно потому, что уже безмерно выше всех»[109]. Или — «идеал человечества вековечный».
Читайте также:
- Достоевский о либерализме
- Кающийся Достоевский и Оптина пустынь (Наталия Шпилевая)
- Откровение о человеке в творчестве Достоевского (Н. Бердяев)
- Миросозерцание Достоевского (Н. Бердяев)
- Религиозно-педагогическая поэма (Алла Новикова-Строганова)
- Евангельский текст в эстетической системе Ф.М. Достоевского (Ф. Б. Тарасов)
____________
[1] преп. Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Вопрос XXI.
[2] преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн.3, гл. XX (64).
[3] преп. Ефрем Сирин. На слова, сказанные Господом: В мире скорбни будете (Ин. 16:33), и о том, что человеку должно быть совершенным.
[4] свт. Кирилл Александрийский. О поклонении и служении в Духе и истине. Кн.5.
[5] Там же; кн.1.
[6] Ср.: «Манихейское понятие греха отличается от христианского. Прежде всего, здесь, как и у гностиков нет понятия первородного греха: вкушение первыми людьми плода древа познания оценивается как благо. Греховность не есть изначально присущее [падшей] душе качество. Греховные помыслы внушаются злым началом, которое противоборствует в человеческой душе с Разумом света и порой побеждает» (Смагина Е.Б. Манихейство (по ранним источникам). М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2011. С.336. Далее: Смагина).
[7] прот. Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Ч.2, гл.1.
[8] Трубецкой Е.Н. Миросозерцания блаженного Августина. Ч.1, гл.III. В кн.: Блаженный Августин. Об истинной религии. Теологический трактат. Мн.: Харвест. 1999.
[9] Ср.: «Чем отличается от манихея он [Ориген, изложивший учение Платона], который говорит, что души человеческие в наказание за грехи посланы в тела, что будто бы они были прежде умами и святыми силами, потом получили насыщение богосозерцанием и обратились к худому и потому охладели (άποψυγείσας) в любви к Богу, а отсюда названы душами, т.е. холодными (ψυχάς), и в наказание облечены в тела? И этого одного было достаточно для совершенного его осуждения, потому что это — языческое нечестие» (Слово благочестивейшего императора Юстиниана, посланное к Мине, святейшему и блаженнейшему архиепископу благополучного города и патриарху, против нечестивого Оригена и непотребных его мнений" / Деяния V Вселенского собора). «Это учение (воплощение как результат грехопадения) послужило основанием для обвинения Оригена в манихействе. Кроме того, Ориген учил, что Адам до грехопадения был невещественным духом, а после грехопадения облекся телом, что также напоминало монизм платоников, переходящий в гностический дуализм» (архим. Рафаил (Карелин)). Оригенизм и либерализм в Церкви.
[10] Ср.: «В человеке содержится вся мощь темного начала и в нем же — вся сила света. В нем — глубочайшая бездна и высочайшее небо, или оба центра. Воля человека есть сокрытый в вечном стремлении зародыш Бога…» (Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с нею вопросах / Шеллинг Ф.В.И. Соч. в 2-х томах. М.: «Мысль», 1989. Т.2. С.112).
[11] Ср.: «Даже дуализм манихейства — такая, казалось бы, зороастрийская черта — есть, возможно, не что иное, как разработка и переосмысление некоторых христианских (или даже более ранних гетеродоксальных иудейских) воззрений, отчасти под влиянием греческой философии. Сам по себе дуализм — категория достаточно общая и абстрактная, он вполне может быть не плодом каких-то внешних влияний, а результатом самостоятельного развития того или иного учения» (Смагина. С.131-132).
[12] «Во второй половине февраля 1870 г. писатель приходит к решению ввести в роман „истинно русского“ героя, человека „почвы“, которого можно было бы противопоставить космополитам-западникам, „чистым“ и „нечистым“, т. е. нигилистам. Реальным прототипом такого героя становится крестьянин-старообрядец Константин Ефимович Голубов. О нем Достоевский писал А. Н. Майкову еще в декабре 1868 г.: „А знаете ли, кто новые русские люди? Вот тот мужик, бывший раскольник <…>, о котором напечатана статья с выписками в июньском номере «Русского вестника». Это не тип грядущего русского человека, но, уж конечно, один из грядущих русских людей“ <…> Голубов даже фигурирует в черновых записях к „Бесам“ как самостоятельный персонаж — тот „новый человек“, религиозно-нравственные идеи которого оказывают большое влияние на Шатова и Князя» (Буданова Н.Ф. Комментарии / Д.,XII, 178-179).
[13] Михайлова Н.М. Розыск о расколах. Ч.II. Гл.5-8,10.
[14] Ср.: «…учитель мужика „в деле веры его“ — это сама почва, это вся земля русская <…> верования эти как бы рождаются вместе с ним и укрепляются в сердце его вместе с жизнию» (Дневник писателя. 1877, май-июнь, гл.4,I / Д.,XXV,168). «Неужели земля одушевлена? и правы суемудрые Манихеи, которые и в землю влагают душу?» (свт. Василий Великий. Беседы на шестоднев. Беседа 8-я).
[15] Подготовительные материалы к «Идиоту» / Д.,IX,167.
[16] Там же; с.184.
[17] Там же; с.183-184.
[18] Там же; с. 246, 249, 253.
[19] Достоевский Ф.М. — Майкову А.Н. 16(28).08. 1867 / Д., XXVIII(2),210.
[20] Идиот. Ч.1, гл. XVI; ч.2, гл. XI; ч.3, гл.VII / Д.,VIII,148, 259, 348.
[21] Братья Карамазовы. От автора / Д.,XIV,5.
[22] Идиот. Ч.4, гл.VII / Д.,VIII,451.
[23] Там же; ч.3, гл.VI / Д.,VIII,339.
[24] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,112.
[25] Записная тетрадь 1863-1864 гг. / Д.,XX,173-174.
[26] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,112.
[27] Ср.: «…все те умы, которые по вековечным законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала <…> бросились ко всем униженным и обойденным <…> Они провозгласили <…> необходимость <…> всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства <…> не останавливаясь ни перед чем» (Дневник писателя. 1877, май-июнь, гл.3,III / Д.,XXV,152-153).
[28] Достоевский Ф.М. — Фонвизиной Н. Д. Конец января — 20-е числа февраля 1854 / Д.,XXVIII(1),176.
[29] Записная тетрадь 1863-1864 гг. / Д.,XX,173-174.
[30] Достоевский Ф.М. — Майкову А.Н. 16(28).08. 1867 / Д., XXVIII(2),210.
[31] Ср.: «В нем [Христе] сосредоточилось все, что есть прекрасного и возвышенного в нашей природе» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. Гл. XXVIII).
[32] Бесы. Ч.1, гл.1, IX / Д.,X,33.
[33] Записная тетрадь 1863-1864 гг. / Д.,XX,174. Ср.: «…Мани утверждает, что всякая душа и всякое движущееся животное носит в себе часть от сущности благого Отца. Итак, когда Луна, передает груз душ, который несет, эонам Отца, они пребывают в Столпе света, который называется Муж (человек) совершенный. А этот Муж — столп света, ибо наполнен очищаемыми душами. Он и есть то, благодаря чему души спасаются» (Acta Arсhelai. VIII (XXVI) / Смагина. С.410).
[34] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,132. Ср.: « Общим и главным для всех беспоповцев (а позднее и для большинства беглопоповцев) „догматом“ является учение капитонов об антихристе, будто бы воцарившемся в Церкви, и о царе, „рожке антихристове“, захватившем Царство. Мнения расходятся по вопросу о моменте его воцарения (до или после патриарха Никона), о его природе (чувственный он или духовный) и о точной дате конца света. О дуалистических, манихейских, корнях этого учения мы уже достаточно много говорили в 1-й и 2-й частях» ( Михайлова Н.М. Розыск о расколах. Ч.III. Гл. 17-5).
[35] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,117, 122, 131, 132, 146, 167-168.
[36] Бесы. Ч.2, гл.VII / Д.,X,197.
[37] Смагина. С.340.
[38] Бесы. Ч.2, гл.1, VII / Д.,X,199.
[39] Дневник писателя. 1877, май-июнь, гл.3,III / Д.,XXV,152.
[40] Бесы. Ч.2, гл.1, VII / Д.,X,199.
[41] Ср.: «У избранников есть главная космологическая функция — очищение Души живой, т.е. частиц светлого начала, содержащихся в материальном мире» (Смагина. С.76)
[42] Идиот. Ч.4, гл.VII / Д.,VIII,450.
[43] Ср.: «Поэтому поставим личность Иисуса на высшую точку человеческого величия. Не дадим преувеличенному недоверию к легенде, которая постоянно вводит нас в мир сверхъестественного, поселить в нас заблуждение. Жизнь Франциска Ассизского тоже вся соткана из чудес. Сомневался ли кто-либо на этом основании в существовании и роли Франциска Ассизского?» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. Гл. XXVIII).
[44] Дневник писателя. 1881, январь, гл.1,IV / Д.,XXVII,18.
[45] Ср. в ставрогинской «исповеди»: «Заношу это именно, чтобы доказать, до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями <…> вся масса послушно исчезала, каждый раз как только я того хотел» (Бесы. Гл. «У Тихона» / Д.,XI,21). Или: «…мы будем добрые и славные люди. А теперь я уже силы свои знаю…» «Нет народа, нет нации в Европе, которые бы не смогли спасти себя собственными силами; даже в самый разгар революции, сейчас же…» (Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,99, 111).
[46] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,146.
[47] Дневник писателя. 1876, март, гл.1, V / Д.,XXII,88-91.
[48] Дневник писателя. 1876, май, гл.2, II / Д.,XXIII,25.
[49] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,136.
[50] Дневник писателя. 1876, май, гл.2, II / Д.,XXIII,26.
[51] «Человек в высших экземплярах своих и в высших проявлениях своих ничего не делает просто: он и застреливается не просто, а религиозно» (Подготовительные материалы к «Подростку» / Д.,XVI,6). Ср.: «… эпидемией массовых самосожжений были охвачены как раз беспоповцы, порождения капитоновщины. <…> требование самоистребления плоти стоит в прямой связи с отрицанием брака и чадородия, и все вместе составляет непременный набор самых опасных сект дуалистов-манихеев» ( Михайлова Н.М. Розыск о расколах. Ч.III. Гл. 17-12).
[52] В.А. Алексеев — Ф.М. Достоевскому. 3.06.1876 / Д.,XXIX(2), 249.
[53] Достоевский Ф.М. — Алексееву В.А. 7.06.1876 / Д.,XXIX(2), 84-85.
[54] Ср.: «Посему, в этом отношении чудные сии люди [ариане] приложились уже к манихеям…» (свт. Афанасий Александрийский. К епископам Египта и Сирии: окружное послание против ариан. §16). «И.Гершкевич исследует фракийский манихейский фрагмент и приводит к выводу, что в иранском манихейском понятии красота и Душа живая тождественны. Это вполне возможно: красота объектов материального мира связана с содержанием в них светлого элемента. Вряд ли справедливо утверждать, что манихейская Душа живая — аллегория Иисуса [Гарднер]» (Смагина. С.341 / Gerschevitch I. Beauty as the Living Soul in Iranian Manichaeism. — Acta Antiqua. T.28, fasc. 1-4. Budapest, 1980, p.281-288 / Gardner J. The Manichaean Account of Jesus and Passion of the Living Soul. — Mansel> p.71-86). Между тем, в случае романтического манихейства и либерального арианства уже Иисус — это лишь аллегория «души живой». Вообще же арианское учение о Сыне Божием как промежуточном звене между Богом и человеком вполне вписывается в манихейскую доктрину с ее «эонами» и «эманациями».
[55] Ср.: «Здесь снова берет верх идиллическая кроткая натура Иисуса. Мечта его - громадная социальная революция, при которой все положения переставятся…» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. Гл. VII).
[56] Ср.: «Всякое человеческое действие, связанное с добыванием пищи, вредит Душе живой; поэтому избранники воздерживаются даже от сбора растений, а питаются приношением слушателей» (Смагина. С.340), например, литературными гонорарами.
[57] Ср.: «Эту великую личность, ежедневно до сих пор главенствующую над судьбами мира, позволительно назвать божественной, не в том, однако, смысле, что Иисус вмещал все божественное или может быть отождествлен с божеством, а в том смысле, что он научил род человеческий сделать один из самых крупных его шагов к идеалу, к божественному. Взятое в массе, человечество представляет собой скопище существ низких, эгоистов, стоящих выше животного только в том одном отношении, что их эгоизм более обдуман, чем у животного. Тем не менее среди этого однообразия обыденщины к небесам возвышаются колонны, свидетельствующие о более благородном призвании людей. Из всех этих колонн, показывающих человеку, откуда он происходит и куда должен стремиться, Иисус - самая высокая» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. Гл. XXVIII).
[58] Ср.: «Как определяете вы грех, согласно с злочестивейшим Манихеем утверждая, что грех естествен? Таким мудрованием обвиняете Зиждителя естества. Когда Бог созидал вначале Адама, ужели врожденным соделал ему грех?» (свт. Афанасий Александрийский. Против Аполлинария. Кн.1, §14,15).
[59] Ср.: «…не весь человек [умирает, но] как физически рождающий сына передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет часть свою людям (NB: Пожелание вечной памяти на панихидах замечательно), то есть входит частью своей прежней, жившей на земле личности, в будущее развитие человечества. Мы наглядно видим, что память великих развивателей человека, живет между людьми (равно как и злодеев развитие), и даже для человека величайшее счастье походить на них. Значит, часть этих натур входит и плотью и одушевленно в других людей. Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в я Христа как в свой идеал» (Записная тетрадь 1863-1864 гг. / Д.,XX,174). Опять тот же принцип: не то «весь», не то лучшей «частью натуры» «Христос вошел в человечество» именно «ветхое», не исцеленное само по себе в Таинствах Церкви. Поэтому равно «вошел в человечество» и Диавол-искуситель. Этот, получается, стал «идеалом» для социалистов, вообще для «западного мира», что, впрочем, не помешает им «кончить» тем же полнейшим «преображением в я Христа» (то есть в Его божественную ипостась и волю). Ср.: «…по мысли Манеса, души, происшедши от столпа света, суть одно тело и, отрешаясь от тел, снова образуются одним существом в один столп по баснословию вымысла их» (свт. Епифаний Кипрский. Слово якорное. §48).
[60] Kephalaia I, 219.34 — 220.3 / Смагина. С.202.
[61] Братья Карамазовы. Ч.2, кн.6, гл.III,е / Д.,XIV,287.
[62] Ср.: «…великий грешник после ряда прогрессивных падений вдруг становится духом, волей, светом и сознанием на высочайшую из высот <…> просто вдруг. Все дело в том, что все зачала нравственного переворота лежали в его характере, который и подался злу не наивно, а со злой думы…» (Подготовительные материалы к «Подростку» / Д.,XVI,7-8).
[63] Подготовительные материалы к «Идиоту» / Д.,IX,222.
[64] «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая <…> иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским» (Братья Карамазовы. Ч. 1, кн.3, гл. III / Д.,XIV,100).
[65] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,99.
[66] Ренан Э. Жизнь Иисуса. Предисловие к тринадцатому изданию.
[67] свт. Игнатий Брянчанинов. Слово о чувственном и о духовном видении духов. Гл.2 / Добротолюбие. Ч. 2. гл. 43.
[68] В относящемся к тому же времени другом письме содержится разъяснение уже касательно оценки Достоевского случая Писаревой как симптоматичного для эпохи падения в «первом искушении». Для нас же здесь симптоматично определение Достоевского «духовной жизни» как желания «участвовать в деле человеческом, готовность на подвиги и великодушие» (Достоевский Ф.М. — Потоцкому П.П. (10.06.76) / Д.,XXIX (2), 86), что лишний раз демонстрирует близость экзегезы Достоевского «критическому» переосмыслению христианства не только либерализмом (Ренаном) и романтизмом (Занд), но и самым что ни есть «аутентичным» гностицизмом. Ср.: «Красота жизни заключается в космическом единении, и основание жизни зиждется на утверждении подвига. Самоотверженность подвига приобщает дух к самым высоким проявлениям бытия. Полную жизнь может дух выявить, неся на пути к Беспредельности чашу самопожертвования» (Рерих Е. Агни-йога. Беспредельность. Ч.1. §5.117).
[69] Братья Карамазовы. Ч.2, к.5, гл.V / Д.,XIV,230.
[70] Ср.: «Идея Иисуса была гораздо глубже; то была самая революционная идея, какая когда-либо зарождалась в человеческом мозгу; <…> она была способна возродить человечество» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. Гл. VII).
[71] Дневник писателя. 1877, май-июнь, гл.3,III / Д.,XXV,158.
[72] Ср.: «Антихристы ошибаются, опровергая христианство…» (Записная тетрадь 1863-1864 гг. / Д.,XX,173). «Бросились на социализм и жаждущие жизни духовной, и голодные…» (Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,145). «Повторяю опять: все споры и разъединения наши произошли лишь от ошибок и отклонений ума, а не сердца» (Дневник писателя. 1877, январь, гл.1, I / Д.,XXV,5), потому что в «сердце» (душе) — неугасимая «эманация Света».
[73] Бесы. Ч.2, гл.VII / Д.,X,197.
[74] Бесы. Гл. «У Тихона» / Д.,XI,24.
[75] Дневник писателя. 1881, январь, гл.1,IV / Д.,XXVII,19.
[76] Ср.: « Нация — это душа, духовный принцип. Две вещи, являющиеся в сущности одною, составляют эту душу, этот духовный принцип. Одна — в прошлом, другая — в будущем. Одна — это общее обладание богатым наследием воспоминаний, другая — общее соглашение, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделенным наследством. Человек не появляется сразу. Нация, как и индивидуумы, это результат продолжительных усилий, жертв и самоотречения. <…> Мы изгнали из политики метафизические и теологические абстракции. Что же остается после этого? Остается человек, его желания, его потребности» (Ренан Э. Что такое нация? / Ренан Э. Собр. соч. в 12-ти томах. Т.6. Киев, 1902. С.100-101).
[77] Подросток. Ч.2, гл.1, IV / Д.,XIII,173.
[78] Подготовительные материалы к «Подростку» / Д.,XVI,35. Тут же — «о трех диаволовых искушениях».
[79] Дневник писателя. 1876, декабрь, гл.2, IV / Д.,XXIV,65. Ср.: «У историка» [либерального «критика»-толкователя Евангелия] «одна лишь забота: соблюсти истину и художественность (эти оба требования неразделимы, ибо искусство» [романтизм, в частности] «есть хранитель неисповедимых законов истины). Единственный же интерес [ортодоксального] теолога - его догмат. Ограничивайте значение этого догмата сколько хотите, все же для художника» [романтика] «и критика» [либерала] «бремя его невыносимо. Ортодоксального теолога можно сравнить с птицей в клетке; для него невозможна никакая свобода движений. Либеральный же теолог» [протестант как предтеча либерала и романтика] «это птица, которая лишилась нескольких перьев в крыльях. Вы предполагаете, что она свободна, и это верно до тех пор, пока ей не понадобится совершить полет» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. Предисловие к тринадцатому изданию). На истинный же «полет», как вы понимаете, способен только Икар либерализма как «вольное чадо воздушных пространств» (там же). Самое замечательное в этом «откровении истины» от «иного высшего сердцем и умом человека», что в «ортодоксальной теологии» (православии) «вольные чада воздушных пространств» — это как раз и есть «духи злобы поднебесной». Но что еще более символично во всей этой истории, так это смерть самого исторического Манихея (Мани, Манеса), согласно жизнеописаниям, разбившегося в результате падения с крыши, то есть в буквальном смысле павшего Икаром на «втором искушении».
[80] Подросток. Ч.2, гл.1, IV / Д.,XIII,174.
[81] Подготовительные материалы к «Подростку» / Д.,XVI,40.
[82] Подросток. Ч.3, гл. 3, II / Д.,XIII,311.
[83] Подготовительные материалы к «Подростку» / Д.,XVI, 35,38, 103, 104, 157, 185, 346.
[84] Черновые наброски к «Братьям Карамазовым» / Д.,XV,202.
[85] Братья Карамазовы. Ч.2, кн.6, гл.I,б / Д.,XIV,264.
[86] Ср.: «…но где же наши священники? Брюхо, пища…» (Записная тетрадь 1875-1876 гг. / Д.,XXIV,99). То есть если не на «царство земное», то «на хлеба» Христа променяли, на первом же искушении дьявола пали.
[87] Братья Карамазовы. Ч.2, кн.5, гл.V / Д.,XIV,230.
[88] См.: Д.,XV,463-465.
[89] Дневник писателя. 1877, январь, гл.1, I / Д.,XXV,7.
[90] Братья Карамазовы. Ч.1, кн.2, гл.V / Д.,XIV,62.
[91] свт. Кирилл Александрийский. О поклонении и служении в Духе и истине. Кн. 1.
[92] Ср.: «Он не был безгрешен, он победил в себе те же самые страсти, с которыми боремся мы, никакой ангел божий не поддерживал его, но лишь собственная совесть, никакой демон не искушал его, кроме того, который живет в сердце каждого» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. Гл. XXVIII).
[93] Записная тетрадь 1863-1864 гг. / Д.,XX,174.
[94] Братья Карамазовы. Ч.2, кн.5, гл.V / Д.,XIV,230.
[95] Записная тетрадь 1863-1864 гг. / Д.,XX,174. Ср.: «…те [манихеи] <…> слагают басни, примышляя сложного Бога <…> Ибо если имеет слова случайные, то Он, по мнению их, совершенный человек» (свт. Афанасий Александрийский. К епископам Египта и Сирии: окружное послание против ариан. §16).
[96] Сон смешного человека. Гл.IV / Д.,XXV.114.
[97] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,154.
[98] Ср.: «Дух — это дух силы и свободы, которые человек (по крайней мере европейского типа) уж никогда не оставит, и гармонии, которая относится уже ко всему обществу и устроит общество разумное, на разумных началах» (на что «тетка» Подростка как полночный представитель «почвы», или «тела божия», ответствует). «— Мудро-то ты говоришь, да ничего. И так можно» (Подготовительные материалы к «Подростку» / Д.,XVI,72).
[99] «…я сказал дурно про общество. О шатании. Но ведь в конце я от него же и жду спасения. Это спасение в расширении идеи русской» (Записная тетрадь 1876-1877гг. / Д.,XXIV,197).
[100] Бесы. Гл. «У Тихона» / Д.,XI,10.
[101] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,145.
[102] «Человечество всегда так делало: жаждет великой идеи» (то есть Христа как «идеал», предельное нравственное развитие человеческой ипостаси), «но чуть она зародится» (то есть естественным путем, как «зарождается» органическая жизнь, согласно катехизису «хлебов»), «непременно ее осмеивает, старается представить ниже себя» (тогда как, на самом деле, она ему как раз вровень). «Только чтоб не думать о великой идее <…> оно непременно выдумывает, и всегда выдумывало» (в частности, в ипостаси диавола в пустыни) идею «второстепенную, для отвода, чтоб только не думать о великой идее» (в нем же, человечестве, эволюционно «зародившейся»). Поэтому и социалистические «телеги, подвозящие хлеб человечеству», несмотря на весь свой демонизм (атеизм, нигилизм), «это — великая идея, но второстепенная, только в данный момент великая» (Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XVI,78).
[103] Ср: «Беззаветно преданный своей идее, он [Христос] сумел все подчинить ей до такой степени, что вселенная не существовала для него. Этими усилиями героической воли он и завоевал небо» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. Гл. XXVIII).
[104] Подросток. Ч.2, гл.2, II / Д.,XIII,178.
[105] Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,98.
[106] Подготовительные материалы к «Подростку» / Д.,XVI,37.
[107] Бесы. Гл. «У Тихона» / Д.,XI,27.
[108] Дневник писателя. 1876, июль-август, гл.4, III / Д.,XXIII,95.
[109] Житие великого грешника / Д.,XI,138-139.