Это случилось год или два тому назад, когда в Михайловском медицинском институте был устроен капитальный ремонт. С учетом того, что подобный ремонт не проводился со времени основания института, то есть с конца тридцатых годов, его по праву можно было считать не менее выдающимся событием из жизни этого ВУЗ-а, чем смена очередного ректора. Ведь ректоры, как короли, приходят и уходят, а стены стоят себе и стоят…впрочем, что о том говорить!
Любопытно было наблюдать, как в ходе ремонта старое здание преображалось на глазах. Но гораздо любопытнее оказывались находки и открытия, которые делали рабочие, выполнявшие этот ремонт. То за слоями штукатурки, обсыпавшейся под ударами перфоратора, как заветная дверца за холстом в каморке папы Карло, обнаруживался замурованный вход в позабытую-позаброшенную лаборантскую, заваленную заплесневелыми пособиями и протухшими лекарствами. То какой-нибудь злополучный рабочий получал травму электротоком, неладно наткнувшись на не значившиеся в плане кабели, проложенные неизвестно кем и неведомо для чего. Однако самая невероятная находка едва не стоила жизни одному из рабочих. По его словам, увидев это, он чуть со страху не умер.
Здесь следует сказать, что строительная бригада, ремонтировавшая здание мединститута, имела интернациональный состав. Начальника ее звали Нариманом, а среди подчиненных он имел и своих соплеменников, и пару-тройку русских, а также таджиков, которых предприимчивый Нариман поставил на самый грязный участок, где отказывались работать все остальные члены его бригады. Полагаю, понятно, что речь идет об институтском подвале.
Подвал Михайловского мединститута являлся весьма примечательным в своем роде местом. И потому заслуживает отдельного описания. Спуститься туда можно было по бетонной лестнице, положенной поверх старых железнодорожных рельсов. Однако не всякий человек решался совершить этот подвиг. Здесь нужно было обладать душевной твердостью и бесстрашием[1]… Ибо лестница была настолько узкой и крутой, что смельчак ежесекундно рисковал свалиться с этого рукотворного межэтажного Эвереста. Оставалось загадкой, какому тайному недоброжелателю рода человеческого пришла в голову злодейская мысль построить лестницу, предназначенную не столько для перемещения по ней, сколько для падения с оной. Впрочем, решения и поступки, в основе которых лежит принцип «и так сойдет», приводят к куда более опасным последствиям, чем тщательно спланированные злодейства.
…Лестница вела в крошечный тамбур со щелястой дверью, за которой открывался сумрачный, смрадный коридор, где гуляли сквозняки. Пол коридора был выкрашен масляной краской. Точнее было бы сказать «вымазан», потому что при взгляде на него казалось: горе-маляры, решив не утруждать себя, просто вылили на пол бочку краски и размазали ее швабрами. В итоге засохшие лужицы краски приобрели вид не то болотных кочек, не то коровьих лепешек. А по центру пола на всем его протяжении виднелись две параллельные выщербины, напоминавшие дорожную колею. Эта загадочная, проложенная неведомым транспортным средством колея вела к двери на заднем конце коридора, за которой открывалось обширное помещение с бетонными сводами, которые с обеих сторон поддерживал ряд кирпичных столбов, и дощатым полом, местами вспучившимся, а местами провалившимся. Вот этот-то пол и было поручено разобрать молодому рабочему из Таджикистана Валиду Мирбаби.
— Ломать — не строить! — ухмыльнулся Валид, обрушивая тяжелую стальную кувалду на ветхие доски. В следующий миг под их жалобный треск он сам рухнул куда-то вниз.
В первые секунды после падения Валид не мог понять, что случилось. Когда же к нему вернулась способность соображать, он догадался, что провалился под пол. К счастью, неглубоко — по пояс. Тем не менее, при падении он сильно ушиб ногу о какой-то твердый предмет внизу. Но что там может быть?
Валид глянул под ноги и разглядел пол, облицованный метлахской плиткой. Похоже, тут когда-то была баня…
Затем он увидел край фанерного ящика с прибитой к нему табличкой. На табличке были написаны три слова: «Диссертация. Не вскрывать».
Разумеется, Валид, не искушенный в тонкостях русского языка, не понял, что означает первое слово. Зато два других… Почти все люди, вне зависимости от их национальности и образованности, воспринимают их с точностью до наоборот. Вот и Валид, поднатужившись, приподнял фанерную крышку…
И заорал от ужаса, увидев женскую голову, пялившуюся на него белесыми, неживыми глазами. Голова плавала в банке с какой-то мутной жидкостью. Кожа покойницы была серо-коричневого цвета, ее белокурые волосы колыхались, как водоросли в омуте, губы были искривлены в иронической улыбке. Казалось, голова сейчас насмешливо спросит: «ну, и как я тебе?»
Страшно, аж жуть!
* * *
Вопль Валида пронесся по всем этажам мединститута — с первого по пятый. Его слышали многие. Но лишь один человек, а именно семидесятипятилетний профессор Ухин, который в это время читал лекцию по нормальной физиологии, время от времени умильно поглядывая на пухленькую первокурсницу Юленьку, сидевшую на втором ряду слева, отреагировал на этот вопль должным образом. Недовольный тем, что кто-то осмелился прервать ход его мудрых мыслей и заставил испуганно вздрогнуть милую девочку, профессор вызвал охранника, потребовал разобраться, кто это там безобразничает, и принять соответствующие меры к нарушителю порядка. После чего продолжил лекцию в полной уверенности — его приказ будет исполнен.
Спустившись в подвал, охранник извлек истошно орущего Валида из подпольной западни. Однако вывести его наверх оказалось не так-то просто: похоже, при падении рабочий серьезно повредил ногу, и каждый шаг вызывал у него сильную боль. А вскоре после того, как вызванная бригада скорой помощи увезла Валида в больницу, в мединститут пожаловал некий гость. То был человек средних лет, по виду — типичный потомок Авраама, чрезвычайно темпераментный и подвижный. Он обежал весь институт — побеседовал с охранником, спустился в подвал, навестил располагавшуюся на первом этаже кафедру топографической анатомии, а также соседние кафедры. И при этом тараторил, не умолкая:
— Как таки вы ничего не знаете? Не может быть! Я должен это выяснить! Я должен знать правду!
* * *
Спустя два дня на первой странице свежего номера местной оппозиционной газеты «Двинская волна», главным редактором которой был скандально известный на всю Михайловскую область журналист Ефим Авраамович Гольдберг, появилась огромная статья под заголовком «Доктор Смерть из Михайловска». Вот что в ней было написано:
«Вчера в подвале Михайловского медицинского института была обнаружена страшная находка: расчлененное тело молодой женщины. Оно было замуровано под полом и случайно найдено одним из рабочих. Редакции удалось выяснить, что, хотя ряд кафедр мединститута до сих пор по старинке пользуется анатомическими препаратами, тем самым нарушая право каждого человека на погребение после смерти, зловещая подвальная находка не является препаратом. Полагаю, понятно, какие выводы из этого следуют. Налицо преступление, и перед нами — его страшные следы.
Но кто та несчастная, жизнь которой была так ужасно и безвременно оборвана под сводами учреждения, где, как принято считать, учат людей, отнимающих у смерти людские жизни? И кто убийца?
Пока очевидно одно — это крайне опасный преступник, умеющий заметать следы. Ведь он не просто расчленил тело своей жертвы, но постарался придать ему вид анатомического препарата. А, чтобы действовать наверняка, замуровал его под полом мединститута, где, судя по всему, и было совершено убийство.
И все же кто тот, перед чьим преступлением меркнет зловещая слава Чикатило? Доктор Смерть, михайловский Менгеле[2] — кто он? Мы ждем ответа от михайловской прокуратуры. Не просто ждем — требуем принять меры и обезопасить наши жизни от убийцы в белом халате, втихомолку готовящего новое преступление.
Кто станет его следующей жертвой?»
Под статьей значилось — Евфимий Михайловский. Именно таким псевдонимом подписывал свои статьи Ефим Авраамович Гольдберг.
А где статья — там и расследование.
* * *
Следователь михайловской прокуратуры Андрей Петрович Лобов, молодой человек лет двадцати трех, сидя в своем кабинете, предавался невеселым раздумьям. В самом деле, чему тут радоваться? Вот он уже целых три года служит в городской прокуратуре, и, несмотря на это, его держат, как говорится, на последних ролях. Разве не так? Ведь ему поручают самые заурядные и неинтересные дела: банальные кражи да ограбления. И лишь изредка доверяют расследовать убийства, да и то — бытовуху, по большей части совершенную по пьяни. А ему так хочется раскрыть какое-нибудь запутанное преступление, вроде знаменитого дела путевого обходчика Евсюкова, сослуживцы которого до последнего оказывались верить, что этот тихий, скромный, участливый человек является безжалостным и расчетливым маньяком-убийцей, несколько месяцев державшим в страхе весь Михайловск. Так нет же! Все интересные дела поручают другим, в том числе Юрке Чугунову, который младше его и годами, и рангом. Где же справедливость? Ведь он справился бы не хуже, чем они!
Безмолвные сетования следователя оборвал телефонный звонок.
— Товарищ Лобов?! — раздалось из трубки, и недавний вершитель судеб мира сразу же подобрался, услышав голос полковника Карцева. — Зайди ко мне. Срочно.
* * *
В тот же вечер лейтенант Лобов, сидя у себя на кухне, сосредоточенно возводил на столе карточный домик. Надо сказать, что строительством карточных домиков он занимался много лет, еще со школы, и добился в этом немалых успехов. И если бы кто-то сказал лейтенанту Лобову, что постройка карточных домиков это детская игра, в которую стыдно играть взрослому человеку, он все равно не бросил бы любимое занятие. Ведь, если верить писателям-романистам, у каждого знаменитого сыщика было какое-то увлечение, отличавшее его от прочих людей. Шерлок Холмс играл на скрипке, мисс Сильвер[3] вязала на спицах, комиссар Мегре курил трубку… Строить карточные домики — куда оригинальней. Вдобавок лейтенант Лобов был убежден, что подобное занятие вырабатывает выдержку и помогает думать. А сегодня ему было, над чем поразмыслить. Вот он и строил на кухонном столе очередное шаткое сооружение из старых карт, а сам думал, думал, думал…
Карта к карте…так, теперь второй этаж… Вот и сбылось его желание — наконец-то ему поручили запутанное дело. Несомненно, это убийство. Ведь об этом свидетельствует наличие трупа. Вот только кто преступник и кто жертва? Это он и должен выяснить. Причем в ближайшее время.
Тут лейтенанту Лобову вспомнился сегодняшний разговор с майором Карцевым.
— Ты, давай, с делом не затягивай. — пробасил его начальник, отправляя смятый папиросный окурок в стоящую на его письменном столе пепельницу в виде лупоглазого скворца с раскрытым клювом. — Даю тебе на расследование две недели. Выяснишь что-нибудь, сразу мне докладывай. Я буду это дело на особом контроле держать.
На особом контроле… В этот миг мысли лейтенанта Лобова приняли другой оборот. Его начальник явно заинтересован в скорейшем расследовании этого дела. Понятно, почему. Ведь товарищ Карцев, хоть и майор, а тоже человек подначальный. Вдобавок дело, благодаря ушлым журналистам, получило общественный резонанс. Люди желают знать имя пресловутого доктора Смерти из Михайловского мединститута, желают удостовериться, что родная милиция (или, если угодно, полиция) и впрямь заботится об их безопасности. Наверняка майора Карцева торопит начальник городского отдела милиции, подполковник Громов, а того — областное начальство в лице полковника Серегина. И каждый из них надеется извлечь из этого дела какую-то выгоду для себя. В таком случае, отчего бы и ему не постараться… Не век же торчать в лейтенантах? С его-то опытом, с его аналитическими способностями! Он достоин большего!
Как видно, в этот миг лейтенант Лобов сделал неверное движение. Потому что карточный домик, который он довел уже до третьего этажа, с шелестом обрушился на стол. Впрочем, следователя это не огорчило. Ведь он понял главное: это дело дает ему шанс подняться по служебной лестнице. Что ж, плох тот солдат, что не стремится стать генералом!
* * *
На другой день лейтенант Лобов приступил к расследованию. Однако, едва увидев тело, найденное в подвале Михайловского мединститута, он понял: его радость была преждевременной. Дельце-то не из простых! В самом деле, такого трупа ему еще не приходилось видеть никогда. В фанерном ящике, словно египетская мумия в расписном саркофаге, покоился женский торс исполинского размера. Впрочем, на самом деле это был самый обычный человеческий торс, разве что серо-коричневого цвета, многократно распиленный поперек. При этом каждый распил с двух сторон был проложен стеклами, по сторонам оклеенными черным дерматином. Между стеклами в траурных рамках плескалась мутная, вязкая жидкость.
В другом ящике, поменьше, находилась белокурая женская голова, в третьем — конечности. Все это было размещено по стеклянным емкостям и залито такой же жидкостью, что и части торса. И к каждому из трех ящиков с этим загадочным и зловещим содержимым была прикреплена фанерная табличка с однотипной надписью: «Диссертация. Не вскрывать», что свидетельствовало: все это части одного и того же тела. Неизвестно кому принадлежащего, неизвестно когда и кем разрезанного на куски и погребенного под полом подвала. Загадка на загадке!
Мало того, все заведующие кафедрами клятвенно утверждали: подвальная находка не является анатомическим препаратом. И подкрепляли свои заверения соответствующими документами. А профессор Олег Владимирович Сапожников, заведующий кафедрой топографической анатомии, располагавшейся на первом этаже мединститута, в аккурат над той частью подвала, где было обнаружено тело, тоном педагога, для которого его профессия уже превратилась в диагноз, объяснил следователю, что учебными анатомическими препаратами у них не пользуются уже лет тридцать. Это он знает точно, поскольку тридцать лет назад учился здесь сам. Так вот, уже тогда, при покойном заведующем кафедрой, профессоре Елизарове, на кафедре в качестве учебных пособий использовали не трупы, а муляжи. Но и их недавно списали — смешно в век компьютерных технологий пользоваться учебными пособиями прошлого века. Не так ли?
Следующую загадку преподнесла медицинская экспертиза подвальной находки.
— Сколько лет работаю, а такого мне никогда не приходилось видеть. — разводил руками заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы Геннадий Иванович Лиходеев, высокий худощавый мужчина средних лет с землистым лицом, не иначе как от удивления сделавшийся непривычно разговорчивым. — Похоже на распилы по Пирогову[4]. Однако это сделано не пилой, а очень острым лезвием, в направлении сверху вниз. Посмотрите, как гладко разрезано! Причем все срезы одинаковой толщины — десять сантиметров, и ни миллиметра больше. А ведь это сделано как минимум полвека назад.
— На основании чего вы это заключили? — поинтересовался лейтенант Лобов, не искушенный в подобных тонкостях судебной медицины.
— На основании цвета кожи трупа. Это свидетельствует, что в формалин был добавлен глицерин. Он придает коже характерный коричневый оттенок. Но какая точность разрезов! Просто удивительно!
— А как вы полагаете, каким орудием могло быть расчленено тело?
— Вот этого-то я и не могу сказать. — признался судебный медик. — Хирургические макротомы и микротомы — все это похоже на него, да не совсем. Думаю, что это было некое приспособление, по принципу действия напоминавшее знаменитую машину доктора Гильотена…
Перехватив недоуменный взгляд следователя, он добавил:
— Проще говоря, гильотину.
* * *
Осмотр тела, беседы с заведующими кафедрами и с судебным экспертом, допрос Валида, который, переходя с ломаного русского языка на родной таджикский, по-бабьи тараторил о том, как он нашел под полом мертвую голую девку, а она на него так и пялится, да еще и ухмыляется…нет, он больше там работать не будет, на другую стройку уйдет… все это лейтенант Лобов успел сделать за два дня. И потому в душе гордился собой. В самом деле, за столько короткий срок ему удалось выяснить так много!
Именно поэтому, когда на исходе второго дня майор Карцев потребовал доклада о ходе расследования, следователь надеялся: начальник похвалит его за рвение и оперативность. В деле прибавилось много новых, ранее неизвестных фактов. Например, то, что убийство было совершено полвека назад, с использованием устройства, напоминающего не то хирургический инструмент, не то гильотину…
— Ну и что в итоге? — перебил его майор Карцев. — Ты имя и личность убитой установил? Убийцу нашел? Вот чем заниматься-то надо, а не гадать, чем это ее так разделали. Понял?
Еще бы не понять! Начальство недовольно. Вот только ему как быть? Легко сказать: установи имя и личность убитой. Но возможно ли это, если все, чем он располагает, это таблички с ящиков, в которых было спрятано тело?
«Диссертация. Не вскрывать». Что таится за этими словами?
Придя домой, лейтенант Лобов уединился на кухне и по привычке принялся строить на столе очередной карточный домик. А сам тем временем раздумывал над загадочной надписью на ящиках с трупом. Несомненно, она свидетельствует о хитрости убийцы, который знал — в каждом человеке живет древний дикарь, не дерзающий нарушить чье-то табу. В иных случаях надпись «не вскрывать» хранит сокрытое надежней любого замка. Но причем тут диссертация? Ведь всем известно, что означает это слово. Тогда кому и зачем понадобилось писать это слово на ящиках с распиленным трупом?
И тут следователя осенило. Как же все просто! Но каким великолепным знатоком психологии надо быть, чтобы так искусно замести следы преступления! Убийца руководствовался принципом: лучше всего спрятано то, что положено на виду. И с циничным бесстрашием написал на ящиках с телом своей жертвы ее имя, будучи уверен — это направит следствие по ложному пути. Ведь никто не заподозрит, что Диссертация — это имя убитой.
Конечно, эту гипотезу еще следует проверить. И все-таки имеется ряд аргументов, которые ее подтверждают. Судя по тому, что убийство произошло в середине пятидесятых годов, а возраст убитой составляет около тридцати лет, она родилась где-то в конце двадцатых-начале тридцатых годов. А в ту пору детям подчас давали весьма странные имена. Атом, Марсельеза, Севморпутина. Отчего бы кому-то не вздумалось назвать свою дочь Диссертацией?
В свою очередь, на основании этого можно предположить, что покойная гражданка Диссертация являлась сотрудницей мединститута или приходилось родственницей кому-то из его работников. Разумеется, это тоже нужно проверить. И для начала расспросить старых сотрудников института. Наверняка они подтвердят его гипотезу и помогут выйти на след того, кто убил гражданку Диссертацию.
Но самый главный аргумент в пользу того, что Диссертация — это имя убитой, заключается в другом. Если это и впрямь так, то он сможет закончить следствие в срок, установленный майором Карцевым.
Ведь, установив имя и личность потерпевшей, легче выйти на след ее убийцы.
* * *
На другой день лейтенант Лобов наведался в Михайловский мединститут. Точнее, в тамошний совет ветеранов, где познакомился с весьма примечательной особой.
То была дама лет семидесяти с черными усиками на верхней губе, величественная, как древнеегипетская пирамида. Ее дородное тело было затянуто в старомодное темно-синее шерстяное платье с пышным воротником из вологодского кружева, на котором были почти незаметны следы штопки. Из выреза платья, как птица из окошка скворечника, выглядывала крохотная головка на длинной шее с обвисшей, морщинистой кожей. Крохотный пучок седых волос на макушке — и портрет готов. Такова была Гертруда Кимовна Людогорская, убежденная, можно сказать, замшелая коммунистка, бывший доцент кафедры истории КПСС, ныне председатель совета ветеранов Михайловского медицинского института.
По неисповедимой иронии судьбы некоторые люди приходят в мир не ко времени, и хорошо, что так. Родись Гертруда Кимовна в середине девятнадцатого века, она бы стала второй Софьей Перовской или Верой Засулич, неумолимой жрицей революции и «святой свободы», бестрепетно и безжалостно приносящей на их алтари кровавые жертвы. К счастью, она появилась на свет в конце тридцатых годов двадцатого века, и потому ее бурная деятельность свелась к бесчисленным выступлениям на комсомольских и партийных собраниях, беготне за нерадивыми студентами, отлынивавшими от общественной работы и конспектирования трудов классиков марксизма-ленинизма, да борьбе за повышение общественной активности коллектива мединститута. Единственной жертвой всей этой многолетней, неистовой и никчемной борьбы стала сама Гертруда Кимовна, так и не обзаведшаяся ни мужем, ни детьми. Мало того — ее многолетняя мечта: возглавить институтскую кафедру истории КПСС — тоже так и не осуществилась, хотя Гертруда Кимовна из кожи вон лезла, чтобы показать: если не она, то кто же? Однако то ли те, от кого это зависело, словно не замечали ее рвения, и до самого закрытия оной кафедры и ухода на пенсию идейная Гертруда Кимовна так и проходила в доцентах. Что ж, бодливой корове Бог рогов не дал…
Разумеется, следователю Лобову до всего этого не было дела. Гертруда Кимовна интересовала его лишь как возможный источник информации о личности Диссертации. Представившись и предъявив свое удостоверение, он поинтересовался, не знакома ли ей гражданка по имени Диссертация.
— У нас такая не состояла. — уверенно произнесла Гертруда Кимовна после минутного раздумья, и следователь понял: старая коммунистка по привычке делит всех людей на две неравнозначные категории: партийных и беспартийных. — Хотя я где-то слышала это имя. Возможно, слышала. Видите ли, у меня всегда было столько работы…
И Гертруда Кимовна принялась рассказывать, как в свое время, учась в мединституте, она добилась исключения из комсомола однокурсника, который игнорировал занятия в хоровом кружке, ссылаясь на отсутствие слуха и голоса. В то время как на самом деле это свидетельствовало об отсутствии у него активной жизненной позиции, необходимой для будущего строителя коммунизма. О том, как в 1956 году, будучи комсоргом курса, она вела борьбу с заведующим кафедрой топографической анатомии, профессором Василевским (нет, тогда кафедрой заведовал уже профессор Елизаров) о переоборудовании одного из подвальных помещений, занимаемых его кафедрой, под лыжный клуб. И добилась-таки своего. Она всегда добивалась своего.
Лейтенант Лобов понял: это надолго. Ишь, как разошлась! Придется ждать, когда эта старая дура наконец-то выговорится и замолчит. И все-таки нет худа без добра — наверняка она знает тех, кто не только слышал о гражданке Диссертации, но и был с ней знаком. В таком случае стоит потерпеть…
В этот миг старуха смолкла, чтобы перевести дух, и лейтенант Лобов решил воспользоваться благоприятным моментом:
— А кто из сотрудников института мог знать гражданку Диссертацию? — спросил он.
Гертруда Кимовна вновь задумалась…
— Пожалуй, вам стоит поговорить с Шурой. Это наша бывшая лаборантка. Да она еще и на кафедре физиологии подрабатывала, и на биохимии — всех знает, всех помнит. Только год как на пенсию вышла, да и то из-за правнука. Недавно у нее правнук родился. — пояснила она следователю. — Вот она и бегает с ним нянчиться. Как будто без нее это делать некому. Разленилась теперь молодежь. А все почему? Западная идеология… Сейчас я ей позвоню.
Вынув из ящика письменного стола синюю папку и перелистнув несколько страниц, она сняла телефонную трубку и принялась набирать номер.
— Алло?! Это ты, Шурочка? Как дела, как Ваня? Что? И ты согласилась? Как ты могла?! Да откуда ты взяла, что он от того здоровей будет? Они же всех в одну купель окунают, да еще в холодной воде… полная антисанитария. Я считала, что ты проявишь большую сознательность…
И опять лейтенант Лобов понял: монолог Гертруды Кимовны грозит затянуться надолго. Однако привыкла же она руководить и поучать. Похоже, это диагноз, и диагноз безнадежный. Он шевельнулся в кресле — казенная мебель не первой новизны отрывисто скрипнула, словно соглашаясь с ним. Гертруда Кимовна осеклась и — мгновенно сменила тему разговора:
— Послушай, Шурочка, тут ко мне молодой человек пришел. Он из милиции. У тебя найдется время с ним поговорить? Так когда ему можно к тебе прийти? Сегодня? Хорошо. Тогда я дам ему твой адрес. До свидания, Шурочка. Всего хорошего.
…И хотя беседа с Гертрудой Кимовной не внесла ясности в расследование дела об убийстве гражданки Диссертации, лейтенант Лобов не считал, что потратил время впустую. Прелюбопытный тип женщины. И наглядная иллюстрация известного утверждения: женщина, во что ее ни ряди, и во что бы они ни рядилась сама, всегда остается болтливой и тщеславной. Вот оно, вечно-женское, точнее, вечно-бабье.
Какова-то окажется Шурочка?
* * *
Бывшая лаборантка Шурочка оказалась чрезвычайно живой и приветливой старушкой лет семидесяти, низкорослой, худощавой, одетой по-домашнему: поверх поношенного фланелевого халата — старомодная шерстяная кофта темно-синего цвета. Разумеется, лейтенант Лобов справился об отчестве хозяйки.
— Александра Ивановна я. — ответила старушка. — Да только к чему меня так звать? Меня всю жизнь только по имени звали. Сначала Шурой, а кто и Шурочкой, а потом бабой Шурой. Вот и вы меня так зовите: мне оно привычнее.
Первым делом баба Шура повела следователя на кухню.
— Как же гостя с дороги чайком-то не напоить? — приговаривала она, торопливо выставляя на стол масленку, тарелку с хлебом, варенье, стеклянную вазочку с карамелью… Наблюдая за хлопотами хозяйки, лейтенант Лобов думал — эта радушная и гостеприимная женщина не из скрытных. Разумеется, ему не стоит сразу заводить разговор о гражданке Диссертации. Следует начать с чего-то другого. Например, поинтересоваться, как растет правнук Александры Ивановны. Ведь нет для стариков большей отрады, чем поговорить о своих ненаглядных внуках и правнуках. А там и о деле…
Расчет следователя оказался верен. Словоохотливая старушка рассказала ему и про дочку Наденьку, которую она поднимала одна, без мужа, оттого и бралась за любую работу, да еще и подрабатывала, где могла. Девка в нее уродилась — работящая. Медсестринский техникум окончила, устроилась в областную больницу. Начинала рядовой медсестрой, а потом и на старшинство пошла. Замуж вышла. А сынок ее, Мишенька, врачом работает, и жена у него тоже врач. Мишеньку-то тоже она растила, вот он теперь бабушку и порадовал, правнучка ей подарил. Мальчонка здоровенький родился, крепенький, крупный, весом аж пять кило, волосики черненькие, глазки карие — в папу пошел. А ее как увидел первый раз, аж заулыбался. Признал бабушку! Антоном правнучка назвали, по святцам. Говорят, если по святцам ребеночка назовешь да окрестишь, у него в жизни все хорошо будет. Дай-то Бог! Вот в прошлое воскресенье они Антошу и крестили в Троицкой церкви. Там настоятелем отец Игорь. Она еще его в ту пору помнит, когда он в мединституте учился, и отработки к ним на кафедру физиологии бегал сдавать. Кто знал, что он не врачом станет, а батюшкой…
— Скажите, Александра Ивановна, а сколько лет вы в мединституте работали? — поинтересовался следователь, обрадовавшись возможности незаметно направить беседу в нужное ему русло.
— Сколько годов? — призадумалась старушка. — А почитай всю жизнь там проработала. Годов пятьдесят уж точно.
— А вам не приходилось знать Диссертацию?
— Да как же не приходилось? Это же дочка Машки-химички. Можно сказать, она на моих глазах и выросла: кафедры наши в ту пору были по соседству. Еще то шило была девка! Помню, дали мы ей раз кролика поиграть — тогда у нас животных для опытов держали. Так она этого кролика в термостат запихала. Хорошо еще включить не догадалась, а то была бы беда! Одно слово, не девка, а шило!
Вот так удача! Мало того, что полностью подтвердилась его гипотеза о том, что Диссертация — это имя потерпевшей, ему удалось установить ее личность. Убитая была дочерью одной из его сотрудниц Михайловского мединститута. Интересно, однако, кто и почему придумал назвать ее Диссертацией?
Вопрос следователя не удивил старушку.
— Так родилась-то в муках. — пояснила она. — Муженек Машкин ученый был, как раз в ту пору диссертацию писал, а у кого что зудит, тот о том и говорит. Вот они дочку и назвали Диссертацией.
Лейтенант Лобов уже готовился задать Александре Ивановне следующий вопрос, как вдруг старушка заговорила вновь:
— Только потом она имя сменила.
— Как? — невольно вырвалось у следователя. Выходит, он рано радовался: дочь лаборантки с кафедры химии — всего-навсего бывшая тезка убитой. — А почему она сменила имя?
— В школе дразнили…
— А что с ней потом стало?
— Да кто ее знает? Раньше я ее, бывало, нет-нет да видела на базаре: то одну, то с каким-то мужиком. Ничего мужик, чернявый такой, вроде как нерусский, а собой ничего, и по одежке видно, что не бедный. Да с тех пор годов шесть как ее не видела. Может, переехали куда. Домов-то новых сейчас вон сколько понастроили: старых почти и не осталось. Да это еще что! Тут у нас по соседству магазин новый открыли, большой такой, «Арена» называется. Зашла я посмотреть, чем там таким торгуют, иду-гляжу, уже ноги заплетаются, а двери нигде нет. Едва нашла — и что вы думаете? Откуда зашла, туда и вышла. Прямо как в лесу водит — блуждаешь в трех соснах, не знаешь, как и выбраться…
Слушая ее, лейтенант Лобов все больше убеждался: его расследование зашло в тупик. Теперь нужно начинать все сначала. Только с чего же начать? Может быть, с места обнаружения трупа?
— Скажите, Александра Ивановна, а вам приходилось бывать в институтском подвале? — поинтересовался он.
— А как же! — ответила старушка. — Почитай, каждый день туда ходила. Там же виварий был, где лабораторных животных держали. Мышей, лягушек. Я их на кафедру в чайнике носила — был у нас такой старый зеленый эмалированный чайник. Посажу их туда, сверху крышкой прикрою, чтоб не выскочили, возьмусь за ручку и несу через раздевалку, потом направо и через первый этаж наверх. Как-то раз иду, а навстречу бегут студенты, прямо на меня! Ну, я чайник с лягушками и выронила. Едва их потом поймали!
Мысленно определив по этим ориентирам местонахождение входа в виварий, лейтенант Лобов задал свидетельнице новый вопрос:
— Но ведь это не единственный вход в подвал?
— Конечно, нет. Еще три входа было.
— А зачем так много?
— Как же? — похоже, Александра Ивановна удивилась этому вопросу. — Там же всякие подсобные помещения были, кладовки. Опять же, электрики, сантехники — все там сидели. С одного входа у физкультурной кафедры лыжный склад был, с другого — тир. Там студенты зачеты по стрельбе сдавали. — пояснила она следователю. Это все справа от входа в институт. А слева был только один вход — через кафедру анатомии. Я слыхала, будто раньше там, в подвале, покойников держали. А сама не видала… да и откуда видать? Я же там и не работала.
Вот как! Выходит, подвал, где было найдено тело гражданки Диссертации, сообщался с расположенной на первом этаже кафедрой топографической анатомии. И, если верить Александре Ивановне, в этом подвале когда-то находились трупы. Но ведь нынешний заведующий кафедрой отрицает это. Кому же верить? Профессору или лаборантке, знающей об этом лишь понаслышке, с чужих слов? Выход один: найти того, кто сможет подтвердить или опровергнуть это.
— А вы не знаете кого-нибудь из старых сотрудников этой кафедры? — поинтересовался лейтенант Лобов.
Александра Ивановна призадумалась.
— Только одну Милу. Остальные-то все, поди, перемерли давно. Правда, она в последнее время сильно головой сдала. Забывается. Ведь она годами еще постарше меня будет. Вы с ней поговорить хотите? Тогда погодите, я сейчас ее телефон найду.
Шаркая стоптанными шлепанцами, старушка побрела в коридор, где на самодельной фанерной полочке, сработанной когда-то ее покойным зятем, стоял телефон, достойный занять почетное место на выставке «Свидетельства прошлого». Она вернулась оттуда, держа в руках объемистый блокнот с засаленными до черноты страницами, которые были исписаны адресами, телефонами, фамилиями. По большей части, зачеркнутыми. Ибо не было уже на свете тех людей, а в тот безвестный край, куда они ушли на вечное жительство, не дозвониться, не послать письма. Так что рукописный справочник Александры Ивановны с годами все больше напоминал синодик, где имен усопших было больше, чем имен живых.
Водрузив на нос очки в тяжелой пластмассовой оправе, Александра Ивановна принялась листать свой блокнот. Пока не остановилась, как видно, найдя искомое.
— Вот что. — промолвила она. — Сначала я ей сама позвоню. А то она, пожалуй, испугается и не откроет. Сейчас ведь много всяких бандитов развелось, которые стариков грабят. Прикинутся сантехником или почтальоном, а сами оберут человека почем зря, хорошо еще, если не убьют. Вот она и боится… Алло?! Это ты, Милочка? Что? Да это же я, Шура. Послушай, Милочка, тут ко мне от Гертруды Кимовны (помнишь ее?) молодой человек пришел — историей института интересуется. Не согласишься ли ты с ним побеседовать? Нет, что ты, у него все документы в порядке — я просмотрела. Андреем Петровичем его зовут. Спасибо. Только напомни мне, пожалуйста, свой адрес. Нет-нет, я за него ручаюсь — порядочный человек. Опять же — ко мне его Гертруда Кимовна послала, ты ж ее тоже знаешь. Так когда ему можно к тебе прийти? Что? Через час? Позвонить два раза, а потом еще два? Хорошо. Спасибо, Милочка.
Повесив трубку, Александра Ивановна сочла нужным прокомментировать разговор:
— Простите, что я ей не сказала, откуда вы. Человек она старый, одинокий — вот всего и боится. А прежде такая красавица да умница была, прямо как артистка с открытки. Что только жизнь с людьми делает! Оттого раньше и говорили: как родился я на свет, да как понял, что родился, так как же я заплакал! Одна радость — внуки-правнуки лучше нас жить будут. Только на то и надеемся…
Однако лейтенант Лобов пропустил мимо ушей житейские рассуждения старой лаборантки. Ибо в это время он думал совсем о другом.
* * *
Звук дверного звонка был резким и громким. Так, теперь еще раз… и еще дважды. Но в ответ на условленный сигнал изнутри не донеслось ни звука. Он позвонил еще раз — снова тишина. Достав из кармана куртки бумажку с адресом Милы, лейтенант Лобов пробежал ее глазами. Денисова Людмила Степановна, улица Садовая, 21, квартира 50. Все правильно. Тогда почему же никто ему не открывает?
Однако, бросив взгляд на дверной глазок, он понял: за ним внимательно и пристально наблюдают. Нетрудно догадаться, кто именно. Пожалуй, стоит успокоить боязливую старуху. Не то, чего доброго, не откроет.
— Людмила Степановна, я Андрей Петрович Лобов. Я к вам от Александры Ивановны…
В ответ послышался глухой лязг замков. Дверь открылась. Точнее, приоткрылась, поскольку ее удерживала толстая стальная цепочка. Из-за приоткрытой двери выглянуло женское лицо, бледное, морщинистое, обрамленное кудряшками цвета пакли. Голова женщины была перевязана полотенцем, губы выкрашены яркой помадой. Но самым примечательным были ее глаза — круглые, светло-голубые глаза, точь-в-точь, как у куклы. И такой же бессмысленный, кукольный взгляд.
Некоторое время старуха настороженно вглядывалась в гостя. Лейтенанту Лобову даже показалось, будто она к чему-то прислушивалась. Наконец она проговорила вполголоса:
— Входите. Только тише. А то у них тут везде камеры понаставлены.
Следователь огляделся по сторонам. В тусклом свете висящей под потолком лампочки он не увидел ничего подозрительного. Выщербленные ступени, похабные рисунки и надписи на стенах, справа и слева — наглухо запертые двери.
Тогда к чему вся эта конспирация? Кого так боится Людмила Степановна?
* * *
Вероятно, в свои лучшие годы Милочка и впрямь была красавицей и умницей. Об этом свидетельствовала выцветшая черно-белая фотография в рамке светлого дерева, с которой Максиму Окулову улыбалась кудрявая девушка, похожая то ли на Любовь Орлову, то ли на Мэрлин Монро, то ли на обоих вместе. Фотография висела над сервантом, верхняя полка которого была заставлена книгами. По большей части то были издания пятидесятых-шестидесятых годов, изрядно зачитанные, с торчащими то тут, то там закладками из конфетных фантиков. Однако кое-где на корешках еще были различимы названия книг: «Голова профессора Доуэля», «Гулящая», «Алая буква», «Консуэло», «Человек, который смеется». Впрочем, на стоявшем посреди комнаты круглом столе, одна из ножек которого была перевязана скотчем, лежала книжка поновей. То был один из бесчисленных детективов Варвары Котцовой, которые так любят домохозяйки. Ибо их с одинаковой легкостью можно читать, стоя у плиты, сидя в автобусе или лежа на полке в поезде. А затем без сожаления выбросить распавшуюся по листочкам книжку и купить новую. Благо, Варвара Котцова ежегодно ударными темпами выдавала на-гора по семь книжек в год, дабы обеспечить народ развлекательным чтивом, а себя — доходами от реализации оного. Что до книжки, лежавшей на столе у Людмилы Степановны, то на ее желто-черной обложке была изображена кастрюлька, из которой выглядывала мертвая женская голова. Над этой зловещей картинкой багровел заголовок: «Десерт для маньяка или кухня Синей Бороды». Из книжки торчало множество закладок, сделанных из фантиков от карамели. Но какие же откровения отыскала Людмила Степановна в этом бульварном чтиве? Впрочем, лейтенанта Лобова куда больше интересовало другое: сможет ли Милочка сообщить ему что-нибудь важное для расследования убийства гражданки Диссертации.
— Скажите, Людмила Степановна, вы ведь работали на кафедре топографической анатомии в пятидесятые годы? — поинтересовался он.
— А зачем вы это спрашиваете? — встревожилась хозяйка, уставившись на него своими кукольными глазками.
— Видите ли, я разыскиваю одну женщину. Ее звали Диссертация. Вы, случайно, ее не знали?
— А она молодая была? — поинтересовалась Милочка.
— Молодая, светловолосая.
— А-а, вот это кто! — оживилась Милочка. И вдруг перешла на заговорщический шепот. — Тогда я ее знаю. Никто не знает, а я знаю. Это его жена.
— Чья жена? — переспросил лейтенант Лобов, не веря своей удаче.
— Тише-тише. — прошептала Милочка, испуганно озираясь по сторонам. — Я сразу поняла, что вы о ней говорите. Бедняжка!
— Почему? — с притворной наивностью спросил следователь. И Милочка, несмотря на всю свою подозрительность, клюнула на его хитрость, как глупая плотичка на крючок.
— Как? Неужели вы не знаете? Он же ее на куски разрезал!
— Кто кого разрезал? — продолжал свою игру лейтенант Лобов.
— Профессор Василевский. Муж ее. Она-то у него красавица была, а сам он — ни кожи, ни рожи, ворона щипаная. Вот он ее и ревновал, так ревновал, что просто ужас! А он ведь хирургом был… Вот он и отрезал ей ногу, чтобы от него не сбежала. А потом другую. Так все и резал, и резал, пока не осталась одна голова. И держал он эту голову в подвале, где у него рояль стоял, да играл для нее всякие вальсы и сонаты, пока она не умерла. Тут он умом и рехнулся, положил ее в стеклянный гроб и стал опыты над покойниками делать. Впрыскивал им разные растворы. Видно, хотел жену назад оживить. Да только они об этом узнали и убили его…
— Кто? — спросил следователь. По правде говоря, он все больше начинал подозревать, что…
— Как кто? — удивленно уставилась на него Людмила Степановна. — Фантомасы. Они же так людьми прикидываются, что не отличишь. Только по делам и можно понять, кто человек, а кто фантомас. Люди по-людски поступают, а фантомасы только о себе думают и заботятся. А до других им дела нет. Вот взять хотя бы моих соседей. Они же мне жизни не дают. То в звонок звонят, то в дверь колотятся, везде камер понаставили — следят. Так это еще что — они каждое утро у меня под окном самолеты запускают. Я уже в милицию звонила, чтобы они им запретили самолеты запускать. Да все бесполезно — летают, как летали. Управы на них нет! Скоро они всех людей переморят — останутся на свете одни фантомасы!
Теперь лейтенант Лобов окончательно убедился — Людмила Степановна не просто «забывается». Несомненно, у нее серьезные проблемы с психикой. И свидетельство тому — ее рассказ о ревнивом профессоре, якобы убившем свою красавицу-жену. Это же явный бред.
В итоге ему опять придется начинать все сначала!
* * *
Придя домой, лейтенант Лобов сел за компьютер и защелкал клавишами. По правде сказать, он был уверен — профессор Василевский существовал лишь в больном воображении Милочки, где реальные события причудливо переплелись с историями из когда-то прочитанных ею книг: то ли из романа «Голова профессора Доуэля», то ли из книжонки про кухню Синей Бороды. И все-таки следователь хотел убедиться в своей правоте. Ведь, обжегшись на молоке, дуют и на воду.
Просмотрев сайт, лейтенант Лобов убедился: он ошибся. В свое время в Михайловском медицинском институте действительно работал профессор Я. Н. Василевский. На сайте обнаружилась даже его фотография, под которой стояли две даты — год рождения — 1905 и год кончины — 1958. Правда, изображенный на фотографии худощавый человек интеллигентной внешности, со скорбным взглядом глубоко запавших глаз, всем своим видом опровергал страшные россказни Людмилы Степановны о ревнивом и безжалостном маньяке, хладнокровно разрезавшем на куски собственную жену. Разумеется, это ничего не доказывало — многие преступники, память о злодеяниях которых надолго пережила их самих, имели самую заурядную, а то и вовсе неказистую внешность. И все-таки о профессоре Василевском следовало разузнать поподробнее. Потому что, если верить информации, размещенной на сайте, с 1955 по 1958 гг. именно он заведовал кафедрой топографической анатомии. А это — почти что улика. Ведь как раз в эти годы в подвальном помещении, принадлежавшем этой кафедре и сообщавшейся с ней отдельным входом, была убита злосчастная гражданка Диссертация.
Так что пока первым и единственным подозреваемым в этом запутанном деле является профессор Василевский.
* * *
На следующий день следователь вновь наведался в Михайловский мединститут. На сей раз — в отдел кадров. Знакомство с личным делом профессора Якова Наумовича Василевского убедило его — в показаниях полубезумной Людмилы Степановны содержалось куда больше реальных сведений, нежели ему показалось поначалу. Профессор Василевский действительно был хирургом. Он и диссертацию защитил по хирургии. Правда, не в Михайловске, а в Ленинграде, где работал до 1955 года. В таком случае, отчего ему вдруг вздумалось перебраться в Михайловск и спустя полгода после этого переезда переквалифицироваться из хирургов в анатомы? И какую роль в этих метаморфозах сыграло то, что весной 1952 г. он, заведующий хирургическим отделением одной из крупных ленинградских клиник, был арестован по печально знаменитому «делу врачей»? Правда, через полтора года последовали освобождение и реабилитация, и все же…
Увы, личное дело профессора Василевского не даст ответов на эти вопросы. Пролить на них свет смогут лишь те, кто знал покойного. Вот только с кого начать? Пожалуй, с Гертруды Кимовны. Ведь именно от нее лейтенант Лобов впервые услышал об этом человеке. Кажется, Гертруда Кимовна в свое время даже училась у него.
Что-то скажет о своем покойном преподавателе одна из его учениц?
* * *
При упоминании о профессоре Василевском старуха поджала губы.
— Да, профессор Василевский преподавал у нас топографическую анатомию. — сказала она. — Но что я могу о нем сказать? Ничего хорошего. Да у нас в институте никто его не любил.
— Почему?
— Неприятный был человек. Замкнутый, надменный.
— И в чем это проявлялось?
— Он всех сторонился. Другие преподаватели держались проще, общались между собой и с нами, студентами. А этот только и знал, что повторял: «помните, Бог знает хирургию на «отлично», я — на «четверку», ну а о степени своих знаний догадывайтесь сами».
— Как вы сказали? — переспросил лейтенант Лобов. — «Бог знает анатомию…»
Разумеется, Гертруда Кимовна попалась в расставленную им ловушку:
— Не анатомию, а хирургию.
— Но он же преподавал анатомию? — продолжал свою игру следователь.
— Видите ли. — пояснила Гертруда Кимовна. — На самом деле он был хирургом. По крайней мере, все так говорили.
— А вы не знаете, почему он ушел из хирургии?
— Нет. Я же тогда еще студенткой была. Впрочем… Думаю, у него было что-то неладно с психикой.
— Почему вы так считаете? — поинтересовался лейтенант Лобов, воодушевленный тем, что теперь он почти раскрыл преступление, которое поначалу казалось ему запутанным. Конечно, оно напоминает истории из зарубежных фильмов: маньяк-профессор, остров доктора Моро, молчание ягнят…
— Ну, например, у него прямо на кафедре рояль стоял. — пояснила Гертруда Кимовна. — Причем не в его кабинете, а в подвале, где, говорят, у него трупы хранились. Сама я этот рояль не видела, только несколько раз, когда у нас вечером были занятия, слышала, как он на нем играл. Что именно, не знаю. Ничего подобного я больше не слышала. Чуть не разревелась даже. Нет, у него явно что-то с психикой было. Да не я одна, многие так думали, только что вслух не говорили. Оттого-то все так и обрадовались, когда он из Ленинграда не вернулся.
— А почему он туда поехал?
— Вроде бы, по каким-то научным делам…
Нелюдимый, нелюбимый всеми человек. Вдобавок, со странностями, позволяющими заподозрить у него психическое заболевание. Показания Гертруды Кимовны подтверждают предположение — он вполне мог совершить убийство.
Что-то скажут другие свидетели?
* * *
— К сожалению, я вряд ли смогу вам чем-нибудь помочь. — произнес профессор Сапожников, настороженно вглядываясь в следователя сквозь круглые очки с толстыми стеклами. — Я не знал покойного Якова Наумовича. Топографическую анатомию у нас вел уже профессор Елизаров.
— Но, возможно, он что-нибудь рассказывал вам о своем предшественнике?
Олег Владимирович задумался.
— Да. Но я бы не хотел касаться этой темы.
— Почему?
— Потому, что я очень уважаю память своего учителя, профессора Елизарова. Он был мудрым человеком. И говорил, что каждому из нас в этой жизни отведены свое место и своя роль. Возможно, в свое время профессор Василевский был выдающимся хирургом. По крайней мере, так считали те, кто знал его, как врача. Например, покойный профессор хирургии Георгий Андреевич Соколов отзывался о нем крайне уважительно. Говорил, что это не просто опытный врач, но еще и ученый. Вдобавок, интеллигент до мозга костей. О моем учителе, профессоре Елизарове, он отзывался иначе… Что ж, возможно, профессор Елизаров и уступал Василевскому в знании хирургии. Зато, в отличие от него, этот Василевский был плохим педагогом. И не имел организаторских способностей. В пору своего заведования нашей кафедрой он довел ее чуть ли не до развала. Впрочем, чего ждать от человека без педагогического опыта, который, вместо того, чтобы налаживать учебный процесс, бренчал на рояле и бредил своей хирургией? Забывая о том, что хирург и анатом — это не тождественные профессии.
— Тогда почему он ушел из хирургии?
— Не мог оперировать. Простите, это все, что я знаю…
— Скажите, а у него были ученики?
— Насколько мне известно, нет. Он был очень нелюдимым человеком. Общался только с профессором Соколовым, да еще с одним инженером из лесотехнического института… фамилия у него какая-то странная была — то ли Припухаев, то ли Пушкарев. Да только профессор Соколов уже лет двадцать, как умер. Думаю, и инженера этого тоже давно нет в живых. А профессор Елизаров старался не упоминать о Василевском. Только один раз обмолвился: его пример — другим наука. Выше головы не прыгнешь, только себе шею сломишь. Не знаю, к чему он это сказал. Но я очень уважаю мнение профессора Елизарова. Это был выдающийся педагог. Что до профессора Василевского, то я знаю о нем лишь понаслышке. Поэтому всецело полагаюсь на мнение своего учителя. Простите. Это все, что я могу вам сказать.
* * *
…Руки лейтенанта Лобова привычно возводили на кухонном столе очередной карточный домик. В то время как мозг его мучительно трудился над построением иной, так сказать, умозрительной конструкции. Ведь завтра ему предстоит отчитываться перед майором Карцевым о ходе расследования. Всю неделю он лез вон из кожи, стремясь распутать это загадочное дело. Дошло до того, что в прошлую ночь ему приснилась гражданка Диссертация. Она сидела в своем фанерном саркофаге, купаясь в смеси формалина и спирта, как Клеопатра в ослином молоке, и бесстыдно ухмылялась ему, словно желая сказать:
— Ну что, легавый? Слабо тебе найти моего убийцу? То-то же… А еще следователь!
Конечно, за эту неделю он успел выяснить многие обстоятельства дела. Установил имя убитой, выявил подозреваемого в ее убийстве. Тем не менее, вряд ли начальник будет доволен его работой. Ведь все, что удалось выяснить лейтенанту Лобову, слишком спорно и является скорее гипотезами, чем доказательствами. И чем больше раздумывать над ними, тем очевиднее становится — они шатки и непрочны, как карточный домик, который сейчас строят его руки.
В самом деле, убитую вполне могли звать не Диссертацией, а как-то иначе. Тем более, что он так и не установил ее личность… да и как это сделать теперь, спустя полвека после убийства? Опять же, кто убийца? Профессор Василевский? Но так ли это? Ведь всеобщая нелюбовь к этому человеку и его странное поведение не доказывают, что он преступник. Взять хотя бы того же маньяка Евсюкова, с виду рубаху-парня, в котором сослуживцы души не чаяли…
Что-то скажет завтра майор Карцев, выслушав его отчет? А он-то надеялся, что это дело откроет ему путь наверх по служебной лестнице. Теперь же еще вопрос — удастся ли ему усидеть на своем месте. Кому нужен следователь, неспособный раскрыть преступление? Что же делать?
Впрочем, выход есть. Завтра он скажет майору Карцеву, что нашел убийцу. И назовет его имя. Неважно, был ли этот человек убийцей или нет. Ему уже все равно. Одинокий, полузабытый, нелюбимый всеми. Вдобавок, он давным-давно мертв.
А мертвые, как говорится, срама не имут.
* * *
Спустя несколько дней после этого в газете «Двинская волна» появилась очередная статья неугомонного и падкого до скандальных историй Ефима Гольдберга. На сей раз она была озаглавлена: «Тайное становится явным». Вот что в ней говорилось:
В одном из предыдущих номеров нашей газеты мы сообщали о страшной находке, обнаруженной в подвале Михайловского медицинского института. Сегодня редакция «Двинской волны» рада сообщить читателям, что теперь они могут спать спокойно, не опасаясь за собственные жизни и за жизни своих детей. Убийца, орудовавший в стенах Михайловского медицинского института, наконец-то найден. И заслуга в этом принадлежит молодому следователю городской прокуратуры, лейтенанту Лобову. Этот достойный продолжатель дела майора Пронина и Шерлока Холмса сумел найти убийцу. Кто же он?
Профессор Михайловского мединститута Яков Василевский. Бывший хирург, психически больной человек, ранее уже привлекавшийся к следствию, как убийца, спасаясь от карающей руки правосудия, бежал из Ленинграда в Михайловск, и, обманув бдительность тогдашнего ректора медицинского института, Глеба Прокопьевича Быкова, возглавил кафедру топографической анатомии. Здесь, в одном из кафедральных подвалов, профессор Василевский осуществлял кощунственные эксперименты по оживлению человеческих трупов. Возможно, он занимался этим, еще живя в Ленинграде, за что и попал под следствие. Но профессору-маньяку мало было глумиться над трупами — он заманил в свой зловещий подвал доверчивую девушку, о которой известно лишь то, что ее звали Диссертацией. Лишь немые камни институтского подвала могли бы поведать о том, как именно он убил несчастную и как расчленил ее труп с помощью сконструированной им гильотины. Тело своей жертвы убийца спрятал под полом. Он надеялся скрыть следы своего преступления, однако не зря сказано: тайное всегда становится явным.
К сожалению, врач-убийца уже не сможет понести заслуженное наказание: по имеющимся у нас сведениям, он умер в 1959 году, в городе Ленинграде. Пусть же посмертной карой ему станет наше презрение и осуждение. Ведь только этого и достоин такой циничный и безжалостный преступник, как покойный профессор Яков Василевский».
* * *
Лейтенант Лобов сидел за письменным столом в своем кабинете, радуясь тому, что следствие по делу об убийстве гражданки Диссертации наконец-то завершено. Прямо-таки гора с плеч! Но главное даже не в этом, в другом: его начальник майор Карцев доволен результатами расследования. Он сам так сказал на днях Андрею Лобову. Прибавив, что написал рапорт о присвоении ему звания старшего лейтенанта. Впрочем, это только начало пути ввысь по служебной лестнице. Со временем он станет капитаном, затем майором, а потом… Разыгравшееся воображение следователя рисовало перед ним все новые и новые карьерные вершины — все выше, и выше, и выше…
В этот миг дверь открылась и в его кабинет вошла незнакомая пожилая женщина, скромно одетая, с потертой сумкой из искусственной кожи в руке.
— Здравствуйте. — сказала незнакомка. — Вы Андрей Петрович Лобов?
— Да, это я. — ответствовал следователь, недовольный тем, что приход незнакомки вернул его с заоблачных высей на землю. — Вы ко мне по какому поводу?
— Меня зовут Клавдия Степановна Акимова. — представилась незнакомка. Я пришла к вам по поводу той статьи в газете…
— Какой статьи?
— О профессоре Василевском. Там написано, что вы раскрыли убийство… Только это ошибка. Профессор Василевский никого не убивал.
— Вот как? — не без скрытой иронии спросил следователь. — И откуда вам это известно?
— Видите ли, в молодости я подрабатывала на кафедре топографической анатомии. — пояснила Клавдия Степановна. — Тогда я еще училась в медсестринском техникуме. Хотела врачом стать. — пояснила она. — Да конкурс в мединститут в ту пору был большой, вот мне все баллов не хватало. Тогда одни мамины знакомые мне подсказали:
— Ты, Клава, сначала на медсестру выучись. С медсестринским образованием вне конкурса в институт берут.
В техникум я с первого раза поступила. На занятия по анатомии мы в мединститут ходили. Вот тогда-то я и познакомилась с Яковом Наумовичем. Умнейший был человек. А как преподавал! Не просто заставлял названия органов по-латыни заучивать, а объяснял, какими заболеваниями они поражаются, и можно ли их вылечить хирургическим способом, и как именно. Даже методику проведения различных операций объяснял. Сразу видно — опытный был хирург!
— А вы не знаете, почему он не работал хирургом? — поинтересовался лейтенант Лобов в полной уверенности — ей об этом ничего неизвестно…
— Он был болен эпилепсией. — после минутного раздумья произнесла Клавдия Степановна. — Это я позже узнала, когда с ним ближе познакомилась. Даже как-то раз у него при мне случился припадок, и я ему помощь оказывала. Однажды он обмолвился, что припадки у него начались в середине пятидесятых годов. А до того их не было.
Мысленно сопоставив время начала припадков с данными из личного дела профессора Василевского, лейтенант Лобов понял… В самом деле, кто не знает, какими методами в те времена добивались от арестованных нужных следствию признаний! Да, человек по имени Яков Наумович Василевский уцелел в следственной мясорубке, но как врач-хирург он безвозвратно сгинул под ее стальными жерновами. Впрочем, он ли первый, он ли последний?
— Так вот, когда наша группа на его кафедру пришла. — донесся до лейтенанта Лобова голос Клавдии Степановны. — он как-то раз спросил нас:
— Девочки, а кто из вас умеет печатать на машинке?
Тут я и вызвалась: мол, умею. Еще бы мне не уметь! У меня же мама библиотекарем в пединституте работала, и даже машинка у нас дома своя была — такая небольшая, черная, а называлась она «Москва». Я на ней маме разные статьи для библиотеки помогала перепечатывать. Вот профессор Василевский и оформил меня на свою кафедру на полставки лаборанткой. А на самом деле я была там машинисткой. Методички печатала, экзаменационные билеты, много чего. И докторскую диссертацию Якова Наумовича тоже я печатала. Он ее три года писал, все разные правки и добавки вносил, чтобы лучше было. За это время он меня к вступительным экзаменам в институт подготовил, да так, что я их все на «отлично» сдала. Если бы не он, может, я так бы и не стала врачом. Таких людей, как он, я больше никогда не видела. Редкой души был человек.
— Тогда, может, вы и гражданку Диссертацию знали? — спросил следователь, всей душой желая услышать «да». Ведь это подтвердило бы его правоту: убийство все-таки было. Если же нет, то его расследование окажется сплошной фикцией. И что тогда?
— Да не было никакой гражданки Диссертации! — уверенно произнесла Клавдия Степановна. — Это анатомический препарат. При профессоре Василевском на кафедре топографической анатомии преподавание велось только на трупах. Василевский не терпел муляжей. Он говорил, что легче научить плаванию на суше, чем преподавать топографическую анатомию на муляжах. Трупы хранились в подвале, а в прозекторскую их привозили на каталке — там в коридоре даже осталась колея от ее колес. А потом санитары на носилках поднимали трупы наверх по лестнице. Им за это доплачивали — лестница-то ведь крутая была. Но не в этом дело. Труп, о котором упоминается в газете, это демонстрационный препарат. Профессор Василевский изготовил его, чтобы наглядно показать суть своего изобретения: послойные разрезы человеческого тела, тоньше, чем распилы по Пирогову. Он считал, что это поможет более точно изучать расположение внутренних органов человека. Как раз этому и была посвящена его докторская диссертация. У меня сохранился один ее экземпляр.
Женщина извлекла из сумки объемистый том в переплете из темно-синего коленкора. Раскрыв его, следователь прочел: «На правах рукописи. Использование гильотинного макротома Василевского-Пушкова в процессе преподавания топографической анатомии в медицинских ВУЗах. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук». Ниже стояла дата — 1958 год. Судя по данным из личного дела, профессор Василевский умер в том же самом году.
Лейтенант Лобов раскрыл фолиант и стал перелистывать ломкие, пожелтевшие страницы. Глаза его скользили по строчкам, выхватывая отдельные слова и фразы: «гильотинный макротом», «шаг среза», «угол заточки лезвия», «чистота срезов»… И чем дольше он листал и просматривал запыленный том в синем переплете, тем больше убеждался: придуманная им история о профессоре-убийце так же походит на правду, как карточный домик — на настоящий дом.
Тем временем Клавдия Степановна, не замечая его замешательства, продолжала рассказывать:
— Он планировал защитить эту диссертацию в Ленинграде. Мол, у него там много друзей и знакомых осталось, и он уверен в их понимании проблемы и поддержке. Да, видно, что-то там у него сорвалось. Потом в институт сообщили — мол, умер в больнице от инфаркта. Видно, не смог пережить… Он же сколько времени и сил в эту диссертацию вложил! Так она и осталась незащищенной, его диссертация… А после него кафедрой стал заведовать профессор Елизаров, он Василевского недолюбливал и плохо о нем отзывался. Тогда я и перешла работать на другую кафедру… но это уже неважно. Я вам только одно скажу — профессор Василевский был очень порядочным и честным человеком. Может быть, даже слишком порядочным и честным. И я прошу вас помочь восстановить справедливость по отношению к нему. Это мой долг перед ним.
Дальнейшее лейтенант Лобов помнил смутно. Кажется, он обещал посодействовать, доложить начальству… что еще ему оставалось делать? Когда же женщина ушла, он сел за письменный стол, закрыл лицо руками и задумался. Как же тяжелы были его думы! В самом деле, что же ему делать? Выполнить свое обещание и доложить обо всем случившемся майору Карцеву? Но тогда лейтенанту Лобову придется признаться, что он выдумал всю эту историю с убийством, чтобы завершить следствие в краткий срок, отведенный для этого его начальником. Каковы-то окажутся последствия этого признания?
Нет, только не это!
Впрочем, можно поступить иначе. И утаить все то, что он только что узнал. В конце концов, дело уже сдано в архив, тело, найденное в институтском подвале, предано земле (он сам подшил в следственное дело акт об утилизации праха гражданки Диссертации), и все события, связанные с этим расследованием, скоро забудутся. Тело заплывчиво, дело забывчиво… Вот только что если эта настырная старуха не угомонится и вздумает опровергнуть итоги его расследования в оппозиционной печати? Что-то будет тогда?
Ведь, как известно, только мертвые срама не имут.
__________________
[1]Перифраз известных строк из «Божественной комедии» Данте. При входе в ад Вергилий напутствует героя:
«Здесь нужно, чтоб душа была тверда,
Здесь страх не должен подавать совета…»
[2]Йозеф Менгеле — врач-фашист, проводивший опыты на заключенных Освенцима и прозванный Ангелом Смерти.
[3]Героиня детективных романов Патриции Вентворт — старшей современницы Агаты Кристи, которая позднее придумала свою знаменитую мисс Марпл.
[4]В Х1Х в. великий русский врач Н. Пирогов разработал методику изучения строения человеческого тела по поперечным распилам замороженных трупов. Он называл его «ледяной скульптурой».
Комментарии
Страшно, аж жуть!
Светлана Коппел-Ковтун, 16/01/2016 - 21:03
Это точно. И всех жалко. Лейтенат Лобов - такой облом, а ведь хотелось человеку
Гертруда Кимовна - колоритна.
И тонкости покраски пола - как с натуры писано. Про медицинские штучки не говорю - жуть все эти головы, срезы, трупы. Хоть и убийства не было.
"Вот злонравия достойные плоды"
Монахиня Евфимия Пащенко, 16/01/2016 - 21:58
Ну, там страсти-мордасти в кастрюльке.
Гениальные зарисовки быта делал мой друг и советчик по разнообразным вопросам, коему (более чем заслуженно) посвящен ряд моих текстов и целая книга.
Гертруда Кимовна - шарж на одну мою родственницу, которая отличается от лит. персонажа, как я - от своей Нины Сергеевны.
А что следователь "обломался" - не мудрено. Нельзя ведь жить по лжи. Он это сделал...и вот, что получилось. Только себе навредил.
"Вот злонравия достойные плоды" - сказал бы Стародум.
Но, честно говоря, текст писался долго...два месяца. Результат не совсем тот, что бы хотелось: вышло "как всегда". И, что знаменательно, пока не отыскалась концепция, не могла дописать. Фрагменты первоварианта висят тут...может быть, кто-то когда-то прочитает и поймет, без чего нельзя написать рассказ. И как долго и трудно приходит понимание этого.
"Аз ексмь чину учимых и учащих мя требую"...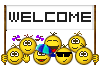
Прочитал, но не смог
Протоиерей Василий Мазур, 10/01/2016 - 17:08
понять чего больше в этом произведении.
Крепости сил Вам, м. Евфимия.
Со Святками Вас!
Монахиня Евфимия Пащенко, 10/01/2016 - 21:28
Со Святками Вас, уважаемый о. Василий! Новых стихов и песен - помнятся!
Рассказ этот - редкий для меня. Ни единого упоминания о Боге, да еще и полудетектив. Но тематика христианская: нельзя жить по лжи, ибо отец ее...то и оно. Плюс - плоды гордыни. Возможно, не думай следователь, что он достоин лучшего - ничего плохого бы с ним не случилось, и он бы не сделал плохого. Но опять же - "мати всех пороков"...
Писался он два месяца, хотя материал был готов давно. Но вот, этой самой идеи про гордыню не было, и получался совсем-уж-кисель.
Впрочем, у следователя остался шанс исправить зло - ценой, возможно, собственного благополучия. Вопрос - что он выберет?
Благодарю Вас, м. Евфимия,
Протоиерей Василий Мазур, 11/01/2016 - 16:12
за обстоятельный ответ. Удивительное дело, но пороки и добродетели литературных героев не проходят мимо самого писателя.
Крепости сил Вам телесных и душевных, м. Евфимия. Пусть Святки наполнят Вашу жизнь немеркнущим светом Рождества Христова.
Ну как же без того?!
Монахиня Евфимия Пащенко, 11/01/2016 - 19:40
Ну как же без того, уважаемый о. Василий? Любой сочинитель в той или иной мере подвержен гордные.
Но я вспоминаю предисловие Клайва Льюиса к "Баламуту": если вы-де спросите, откуда у меня такое знание психологии темных сил, отвечу словами поэта: "явило сердце мне всю злобу зла".
О том же говорил и патер Браун у Честертона.
Могу ли я сказать: нет, это все не от меня...перефразируя поговорку - персонаж от автора недалеко падает.
Священнику ли, духовно умудренному человеку, это ведомо...
Перечитываю и читаю "Нарнию"...
Между Гоголем и Чеховым
Сергей Марнов, 10/01/2016 - 15:29
И все-таки - "Шведская спичка"! Только времена изменились, и люди тоже. Как писал в одном рассказе молодой Кир Булычев: "Динозавры не вымерли, они просто измельчали". Нет, ну что вы натворили?! Чеховский следователь напился, а Вашему что делать? Старушку кокнуть? Ведь, как говаривал старина Флинт: "Мертвые не кусаются". Что делать-то?! Неясно... Зато ясно, что творчество матушки Евфимии - это Литература, а не Варвара Котцова с Дарьей Донцовой. От души поздравляю с явным успехом!
Вот т сказочке конец
Монахиня Евфимия Пащенко, 10/01/2016 - 21:14
Вот и сказочке конец, а кто дождался - молодец!
Бедный следователь попал в оборот. Подумать страшно, что будет с ним дальше. Мертвые не кусаются, правда, но могут жестоко отомстить за поругание памяти. И поделом: "любовь к отеческим гробам" - не из того, чем можно поступиться. Ибо на ней (и на любви к родному пепелищу" -
"...Основаны от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его".
Василевский - жертва. И жертва вдвойне. В первоварианте была его подробная биография: жена предала, коллеги завалили его диссертацию... Я убрала все. Драма угадывается, но, введи я его биографию - сюжет стал бы еще более размытым. И так текст неровный. Но у меня мало таких, за которые могу не стыдиться (и хорошо, что так). Чай, начинала с лит. критики...
Спасибо за ожидание! И со Святками Вас!
Результат вышел гармоничным,
Марина Алёшина, 10/01/2016 - 15:25
Результат вышел гармоничным, все части уравновешивают друг друга. Вот еще одно подтверждение правильности Вашего вывода о мотивах личности следователя.
Интересно, что последний наш разговор имел продолжение. Я тоже взялась за Жорж Санд (по мотивам нашего предпоследнего разговора) и наткнулась на повесть "Ускок", герой которой — рафинированный злодей. Кое-кто полагает, что автор взяла типичного героя лорда Байрона, этакого повесу, всячески потакающего страстям, и довела до логического завершения. Вышел человек, перед которым моральный выбор уже не стоит. Удивительно, но на нем держится все повествование, хотя сочувствия он вызвать никак не может. И она тоже вместо морального выбора в качестве дилеммы предлагает своему герою угрозу его себялюбию (в разных проявлениях, не столь важно каких). Как угодить себе — единственный внутренний вопрос, и ради его решения он много раз идет сначала на подлость, затем — на убийство.
Так что все подтверждает правоту Вашего вывода.
Поздравляю с Праздниками и завершением трудной работы!
Радуйте нас еще.
Да, из-за того и не получалось
Монахиня Евфимия Пащенко, 10/01/2016 - 21:22
Да, уважаемая Марина, вот оттого-то и не получалось. И пока гениальный совет о. Николая Агафонова осмыслился - топталась вокруг да около. Пршлось вновь ввести хобби - и вместо паззлов - карточные домики (это символ, как в рассказе про о. Севира - стена, которой герой отгораживается от паствы). Правда, не удалось избежать размытости в изображениях героев. И есть статичность...результат передержки текста.
Жорж Санд удивляет, просто удивляет. Тем более, что сейчас ее книги воспринимают, как подростковое чтение. Но видно - писал верующий человек. Надо будет почитать сей "Ускок".
Но сейчас я читаю и перечитываю "Нарнию": "Конь и его мальчик" (впервые), "Принц Каспиан" (перечитала, это моя любимая сказка про Нарнию), "Последняя битва" (только что, впервые). Осталось непрочитанным лишь "Серебряное кресло"...начала. Милые, нестрашные сказки...но прозрений там много. Эх, еще б Макдональда перечитать!
Спасибо Вам! Вот Вы и дождались.
А первовариант пусть остается - авось кто-то прочтет любопытства ради, и поймет - без чего нельзя написать текста. Идея, концепция - вот оно, главное!
Со Святками Вас!
Спаси, Господи, за это
Александр Щербаков, 10/01/2016 - 13:22
Спаси, Господи, за это повествование, матушка!
Прочитал с большим вниманием и удовольствием. Впомнил строчки Роберта Ивановича Рождественского, из его поэмы "Реквием":
и далее:
По прочтении Вашего повествования и мне подумалось, что степень человечности - и моей тоже! - определяется отношением к смерти и перешедшим порог её. "Мёртвые срама не имут" - верно. Зато имут его живые, "списывая" на мёртвых вину за катастрофы и несчастные случаи, чтобы навсегда скрыть неудобную и горькую правду о произошедшем. А то - и чтобы отвести суд земной от истинных виновников трагедий, что продолжают "ходить по Земле" (и занимать прежние должности), каким-то неведомым способом пребывая "в ладах" со своей совестью. "Что душе умершего человека? Она уже в мире ином, получает воздаяние своё...". Но ведь нам, живым, и в мире этом хочется видеть прообраз того мира, надмирного, где торжествует Правда Божия! И Ваша лирическая героиня, Клавдия Степановна, для того и послана герою - лейтенанту с говорящей фамилией Лобов, чтобы он явил себя человеком разумным, Божьим. Проявит ли? Очень хорошо Вы поставили точку в повествовании, матушка. Заставили меня, читателя Вашего, поразмышлять.
Приметил я и ещё героя - журналиста со "сложными" Фамилией - Именем - Отчеством. Столь "сложными", по-видимому, что он просто "вынужден" пользоваться псевдонимом, именем вымышленым. Но от этого ли? Волею Божьей мне довелось два года назад побывать в далёком селе Герасимовка Тавдинского района Свердловской области, на родине убиенных в далёком 1932 году отроков Феди и Павлика Морозовых, узнать немногие из дошедших документальных свидетельств той трагедии. И знаете, матушка... Я как будто почувствовал истинную трагедию того убийства - не ту, что дошла до нас стараниями уважаемого мной писателя, работавшего под псевдонимом Максим Горький, и не ту, что изложил в своей книжонке писатель под псевдонимом Юрий Ильич Дружников (у него, как выяснилось, тоже "непростые" Фамилия - Имя - Отчество). И захотел сам написать о тех фактах, которые узнал сам и о которых многоуважаемые умолчали. И написал. И напишу ещё - если благоволит Господь! - в одной из глав будущей моей книжки. А ещё через время говорил с известным в Челябинской области журналистом и фотографом, Павлом Васильевичем Большаковым, который журналистскую профессию получил ещё в 70-х годах, и хорошо помню, как он с горечью свидетельствовал о том, что настоящая журналистика дискредетирована и "похоронена" опусами многия нынешних писак, для которых не важны ни правда, ни новизна, ни художественность, а только - броский заголовок и шелест купюр при расчёте за заказной "матерьялец".
Вот на такие мысли навело меня Ваше повествование, матушка.
Поздравляю Вас с наступившим великим Праздником Рождества Христова. Желаю Вам снискать спасения души, всемерного заступничества и помощи Божьей в служении и заботах Ваших, а также здоровья и дальнейших творческих достижений.
Спасибо Вам!
Монахиня Евфимия Пащенко, 10/01/2016 - 22:03
Спасибо Вам! Вы правильно угадали смысл текста: поругание памяти мертвых (а Василевский - жертва вдвойне, я просто затушевала некоторые моменты его биографии) ради выгоды живых может дорого обойтись этим самым живым. Да и Андрей Лобов - мертв душой. Подлость за подлостью, а под конец - безысходная ситуация. Ведь нельзя жить по лжи. И одна, крохотная ложь, вызывает целую лавину зла.
И ведь он уже готов совершить новую подлость, скрыть правду, ан вот же...
Ефим Гольдберг - это один из моих "проходных" героев. Их несколько. Нина Сергеевна, антиквар Борис Жохов по кличке Жох. Ефим Гольдберг появился позже и пришелся мне по двору. Этакая "идеологическая блудница", правдоискатель ради собственной выгоды. Впервые он появился в рассказе "А виноват Интернет", сразу став человеком из свиты Жоха. Потом мелькал в "Третьем радующемся", "Плате за покой", "Звезде и смерти о. Александра", "Своем человеке на небесах". Первый и последний рассказ из списка дают полное представление об этом пренеприятном субьекте.
А действие происходит в вымышленной Михайловской и Наволоцкой епархии: не Нарнии, не Средиземье - в узнаваемой сказке, и все же - в сказке.
Спасибо за добрые пожелания! Авось еще чем порадую.
И со Святками Вас! Общая и великая наша радость - Рождество Христово!
Ваш читатель, матушка,
Александр Щербаков, 10/01/2016 - 22:26
Ваш читатель, матушка, думает, что Ефиму Гольдбергу нужно побольше бывать "в свете Правды": пускай получше разглядит его пишущая братия. Авось-да узнает в себе и своих сочинениях знакомые черты (какое слово, однако!). Нелишней будет эта сюжетная линия. Думаю, что без него (Ефима Гольдберга) не каждый сразу вспомнит героев Ивана Андреевича Крылова - Сочинителя и Разбойника.
Равно как и строчки из поэмы "Коррида" Евгения Александровича Евтушенко:
С радостью пополнил бы нашу семейную библиотеку Вашими книгами, матушка. Да вот скоро ли снова настанут времена, когда в книжных магазинах появятся книги, которыми жива русская литература? Ну в самом деле: хватит потчевать читателя Нарнией и Средиземьем! Жизнь земного нашего Отечества гораздо более стоит быть мастерски запечатлённой и сохранённой, в научение будущим рабам Божьим, нашим согражданам.
Ну, "Нарнию" сейчас читаю
Монахиня Евфимия Пащенко, 10/01/2016 - 22:53
Ну, "Нарнию" сейчас читаю. С удовольствием, поскольку не все сказки читала. Вот только что дочитала "Последнюю битву". И про Средиземье сказки читала - перечитывать вряд ли стану скоро - впечатление яркое. И то, и другое читано не в детстве...мягко говоря, в зрелые годы. Еще "Сэр Гибби" Джорджа Макдональда (того самого, благодаря книгам которого уверовал Клайв Льюис) - похоже на произведения Диккенса, но христианского там побольше, и есть ярчайшее описание встречи человека с Богом - как святому пророку Илии - "во гласе хлада тонка".
Понятно, можно и без этого - у нас много своих книг, самых православнейших. Но интересно посмотреть лучшие образцы западной хрисианской литературы, написанной людьми, безусловно, глубоко верующими. У них бывает ярче внешнее обрамление. Но истинные высоты и бездны - у нас. Достоевский, Пушкин, и не только.
А скорбноглавый Евфимий... я над ним смеюсь, хотя он мерзок. До Правды ему далеко...и не дойдет он до нее. Собственно, в рассказе про "виноватый интернет" он даже (по протекции Жоха) успел было возглавить пресс-службу вымышленной епархии. И что он там натворил! К счастью, недолго ему пришлось куролесить - Бог бдит над моими персонажами и градом Михайловском, и, как бы ни плутовали, ни ярились и ни буйствовали иные отрицательные персонажи - им не победить. "Зло вперед забегает, но не одолевает" - ко всем этим текстам вполне уместно это изречение преподобного Амвросия, старца Оптинского.
Это особенно ярко в цикле рассказов про Жоха. Если будете читать, три лучших: "Возвращение чудотворной", "Жохи и лохи" и "А виноват Интернет". Все тут есть...