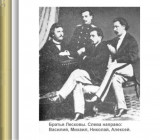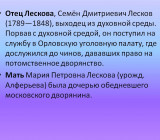Глава 3. Мать
Мария Петровна, по родству, была человеком совсем иного, чем ее муж, круга, а с тем и во всем других взглядов, вкусов, привычек, влечений.
Родилась она 18 февраля 1813 года в Орле. Происходила из рода Алферьевых, орловской же породы, служивших на средних должностях в московском Сенате и других учреждениях первопрестольной.
Отец и мать ее, потеряв при пожаре Москвы 1812 года все, находившееся там, достояние свое, к отроческим ее годам жили в селе Горохове у Страховых.
Воспитана она была в обычном дворянском стиле: музицировала, говорила по-французски, умела держать себя в обществе, вести в гостиной легкую светскую беседу, вставить к месту острое русское словцо или красивое иноземное выражение, рукодельничала, знала хозяйство. В итоге все, что требовалось тогда для выхода замуж, было налицо, кроме самого главного — приданого. А без пего виды на «хорошую партию» были слабы. Не было и видного, чиновного или общественного, положения у отца, не хватало и красоты, покрывавшей в добрый час все нехватки. Оставалась одна цветущая юность с сопровождающей ее часто миловидностью. Не велико богатство.
А засиживаться у родителей, занимавших в семье богатого «полупомешанного» зятя далеко не полноценное положение, не приходилось.
Однажды Лесков писал, что его мать — «чистокровная аристократка влюбилась» в его отца — «дремучего семинариста» [Письмо Н. С. Лескова к П. К. Щебальскому от 16 апреля 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 313.].
Тургеневский герой в рассказе «Три портрета» утверждал, что в его время «таких роскошей не водилось».
Две сестры были уже пристроены. Посватался к третьей не совсем неимущий и небесчиновный уже Лесков — ее и благословили: слава создателю, и последняя сошла с рук, пристроена! Чего спокойнее. Девице-то ведь все семнадцать!
Словом, все шло более чем просто: по всем преданьям старины, по воле родительской и жизненной необходимости.
Марья Петровна была женщина большой воли, трезвого ума, крепких жизненных навыков, чуждая сентиментальностей и филантропии, властного нрава. По определению сына-писателя — «характера — скорого и нетерпеливого» [«Юдоль», гл. 1, 20 и 21. Coбp. соч., т. XXXIII, 1902–1903.]. Несмотря на большую разницу лет между супругами, домом и всем хозяйством правила она. Резко отличалась от своего, в панинские годы, чудившего мужа, была всесторонне деловита и практична, радея о насущном и не возносясь выспрь.
После вполне благополучных условий существования в Орле в своем, пусть и нехитром, доме и при заседательском окладе, получавшемся Семеном Дмитриевичем, жизнь, с неудержимо росшей семьей, без всякого приработка со стороны мужа, была трудна. Помощи его не было и в полевом хозяйстве. Первенство во всем перешло к ней. Год от года отец, по словам старшего сына, все больше «глох».
Панинские крестьяне, считая, что их «панок не лют», о властительнице своей думали иначе. Того же мнения держались и ее сестры и вообще все во всем родстве.
Отношения с первенцем, всех больше, по убеждению многих, перенявшим некоторые черты: матери, не были теплы. Что-то по отношению к родительнице у него «в печенях засело».
Это давало, поражавшие неожиданностью, отзвуке в его раннем писательстве.
Описав, как жена «Митрия Семеныча» ударила раз самую любимую свою дочурку Машу рукой, поставила ее в угол, загородила тяжелым креслом, пообещав потом высечь розгой, а вечером, уже в постели, и высекла, автор говорил:
«У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его раздевали, клали в кроватку и там секли... Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию розгами, без счета должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашаются целовать розги, а только с летами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати».
Там же давалась как бы и общая картина нравов: «Не злая была женщина Настина барыня (жена «Митрия Семеныча». — А. Л.), даже и жалостливая и простосердечная, а тукманку дать девке или своему родному дитяти ей было нипочем. Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту и в дворянском. Один у другого словно перенимает. Мужик говорит: «За битого двух небитых дают», «не бить — добра не видать», — и колотит кулачьями; а в дворянских хоромах говорят: «учи, пока впоперек лавки укладывается, а как вдоль станет ложиться, — не выучишь»,— и порют розгами. Ну и там бьют, и там бьют. Зато и там и там одинаково дети вдоль лавок под святыми протягиваются. Солидарность есть не малая».
И наконец вывод: «Беда у нас родиться смирным да сиротливым, — замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослывешь у них грубияном да сварою, а пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз взмолишься молитвою Иова многострадального: прибери, мол, только, господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут катаньем» [«Житие одной бабы», гл. 3, 5. — «Б-ка для чтения», 1863, № 7].
Это из нутра и сердца за свои обиды вылилось! Тут уже о чьей-то жалостливости не поминается. В прозрачности обрисовки, где и кто в таких обычаях был особенно скор и нетерпелив, — чувствуется неодолимое желание чем-то сквитать былое. Приходится признать, что вообще с детьми Марья Петровна была очень неровна. Неудавшейся, некрасивой старшей дочери Наталии, даже и при отце, жилось горше горького. Любовь щедро проливалась на красивого и одаренного, рано погибшего младшего сына Василия и на многообещавшую и красивую, в отрочестве умершую, младшую дочь Машу. «Все ей за князя прочили выйти, а она вышла за еловую домовинку». Материнскому самолюбию первое льстило, а потеря любимицы убила. С остальными шло по-всякому.
Так, в одном из позднейших рассказов, написанных уже много позже смерти матери автора, она убедительно противопоставляется самоотверженному добросердию полуапокрифичной «тети Полли», то есть как бы Пелагеи Дмитриевны, и еще менее достоверной англичанки Гильдегарды [«Юдоль», гл. 20, 21 и др. Собр. соч., т. XXXIII, 1902–1903.].
Но все это беллетристическое, а есть и бесспорная дневниковая запись ее любимца, Василия, человека искреннейшей души:
«Апр/ель/ 1/1871 г., Петербург/. Сегодня день именин моей матери, шлю ей заочно мое душевное поздравление и искреннее желание добра и покоя в жизни. Старуха много помоталась и победствовала на своем веку и имеет права на покойную старость. Разумеется, другая на ее месте и была бы довольна своим положением, но у нее дурной характер, и в этом ее несчастие. Дай ей боже смириться душой, и она отдохнет!» [Арх. А. Н. Лескова.]
За восемнадцать лет замужества Марья Петровна много рожала. Большого присмотра за детьми держать, должно быть, было некогда, да и глаз не хватало по малости дворовых. Половина ребят вымерла. Одного даже сумели как-то обварить до смерти. Дожили до полных лет шестеро — четыре сына и две дочери.
Ни в годы замужества, ни в постигшем ее на тридцать пятом году вдовстве она не искала острых личных переживаний, целиком отдаваясь заботам о муже, детях, конечно как умела, — пожалуй, так сказать, «с ухабцами и сухой колотью». Избытка и радостей в глухой деревушке, на небольшом земельном клину, но с большой семьей, не могло быть. Была нужда, подчас крутая. А выдержала: детей, кроме одной постылой дочери, подняла и угол сберегла, не расточила.
Влиятельные и достаточные родственники поустраивали последних двух мальчиков в учебные заведения, Наталия году в 1851 ушла в монастырь. Кормиться вдвоем с дочерью Ольгой становилось легче. Старшая сестра и новый ее, благородный муж Константинов помогали. Зимы можно было проводить у них в Орле, в обширном доме, доставшемся Наталии Петровне по завещанию Страхова, у Плаутина колодца. Стали рождаться новые потребности: Ольга Семеновна была «на выданье»... За нею и сама Марья Петровна стала вовлекаться в круговорот светской жизни губернского города, где жили такие именитые и богатые родственники или свойственники, как Кологривовы, один из которых командовал всею русской гвардейской кавалерией в наполеоновские войны, «столбовые» Тиньковы, Бунины и т. д. Тянуться было нелегко, а всей душой хотелось наверстать панинское безвременье.
Старший сын и брат над этим подшучивал, но жизнь естественно текла по обычному руслу.
В воздаяние за многие заслуги второй сын, Алексей Семенович, с упрочением своего положения практического врача и общественного деятеля, в 1863 году благословил старевшую мать продать Панино и вместе с Ольгой перебраться к нему в Киев.
Так все и сделалось. В свой час сын женится на тихой и кроткой чахоточной польке Елене Францевне Лонгиновой, дочь выходит замуж и переезжает в Канев, сын теряет больную жену и после нескольких лет вдовства задумывает жениться вторично. Новая избранница сердца — состоящая во втором браке с неким М. Болотовым, по первому мужу Арцимович, Клотильда Даниловна, рожденная Гзовская, мать троих детей от второго мужа. Дома буря! Мать и сестра становятся на дыбы. К улажению разрастающихся осложнений привлекается Николай Семенович. Надо сказать, что из всех его писем к матери сбереглось почему-то одно-единственное и притом как раз именно этих трудных для Марьи Петровны дней. Привожу этот документ, рисующий отношения, существовавшие между матерью и старшим ее сыном:
«31 генв. 879 г. Спб.
Среда.
Дорогая матушка!
Когда вы получите это письмо, брат Алексей будет в дороге. Он и его спутница выезжают завтра, в четверг, 1-го февраля, в 7 часов вечера, с курьерским поездом, и, следовательно, приедут в Киев в субботу вечером. Брат довел дела до известного положения, в котором их могут докончить другие, и спешит к дому, к делам службы и к практике. Это вас должно успокоить. Он также везет гостинцы вам, Ольге и ее детям. Вообще он о всех вас помнит. — По вопросу о житье вашем, как вчера писано, я сегодня имел с ним разговор, результат которого можно считать удовлетворительным, если вы будете готовы принять условия (от оценки коих я отказываюсь). Алексей пожелал прочесть ваше последнее письмо ко мне. А я, не видя в этом письме ничего неудобного, — напротив, встречая в нем выражения любви вашей к нему, — не счел нужным отказать ему в этой просьбе. Это и дало мне повод переговорить о вашем желании остаться в Киеве. Я, конечно, не скрыл, что я советую вам уехать, и советую это именно ввиду прежних неладов ваших с его нынешнею невестою. Он отвечал, что «это самое лучшее и что иначе он не может». Тогда я предложил: нельзя ли вас устроить в маленькой келейке и оставить там в покое? Он согласен на это, но с условием, чтобы вы ничем не возмутили спокойствие его невесты и жены, — даже ни разговорами о ней с дядею или с прислугою. Я отвечал, что такие условия невозможны, потому что мало ли на свете вестовщиков и сплетников, которые могут сказать, что мать сказала то или другое, и тогда сейчас с нее начнется взыск. Это не в порядке вещей, и в этом тоне я не считаю даже возможным продолжать переговор и, для спокойствия общего и для достоинства матери, желал бы, чтобы она не согласилась подвергаться всяким случайностям, а уехала бы к сестре Ольге. Он сказал, что это и для него наилучшее, но что вы не уедете. За сим я, признаюсь, более уже ничего не понимаю и должен умолкнуть. «Потроха» все сразу, по его мнению, не надо брать. Конечно, можете их брать, можете и оставить до апреля. В апреле, он полагает, что вы приедете повидаться, на время, — и тогда заберете «потроха». Просить вас остаться он решительно не хочет, а если вы будете проситься оставить вас, то вам будут предложены сказанные зависимые и, по-моему, совершенно невозможные условия. Однако, согласясь на них, вы еще можете остаться в Киеве, если это вам так нужно и дорого. Все это в воле вашей, но моего совета на это нет, и добра я вам от этого предсказать не решусь. Я бы на вашем месте ни за что на это не согласился, но вы поступите по усмотрению своему. Может быть, я и ошибаюсь. Брат уезжает в прекрасном, веселом расположении духа, и вы хорошо сделаете, если не встретите его с лицом недовольным. Все, чего вы не желали, уже совершилось, и переделать этого нельзя. Нечего уже теперь ныть и ворковать, а надо бодро смотреть вперед и научить свою скорбь быть гордою. О любви своей к нему лишнего не говорите. Какая же мать не любит сына, да еще такого хорошего, как Алексей? Что же он, в самом деле, Сергей Петрович, что ли, который всего матери жалел и выбросил ее из дома без всякой причины. Он берег вас и сестру выдал замуж братски. Что же его не любить? Вы хорошая мать, но такого сына и дурная мать любила бы. Зачем же об этом говорить? Расстаньтесь как можно более спокойно и смирно. Это все, что может вам желать лучший друг ваш. Остальное покажет время, которое бывает изобретательнее нас.
Преданный вам сын Николай.» [Арх. А. Н. Лескова. ]
По общесемейному решению, Марья Петровна два года проводит у Ольги Семеновны в Каневе.
К счастью, она не знала, что уже после ее переезда в Канев к Ольге Семеновне, когда развод Клотильды Даниловны еще едва двигался, Николай Семенович писал брату Алексею:
«Твоя первая жена, милая Ленушка, вносила что-то новое, свежее, живое и деликатное, но вся ее дорога была от печи до порога, а дом опять похвился скукою и себялюбием. Теперь снова человек добрый и, кажется, более здоровый и даже более опытный, чем Лена. Дай же бог чего-нибудь живого, простого, сердечного и горячего; дай бог нежную женщину в этот круг, где так велик и так мучителен недостаток этого свойства. Горе и всеобщая беда с кучерами в юбках, а иx так много, так много, что и сказать страшно» [Письмо от 22 августа 1879 г. — Арх. А. Н. Лескова.].
Время целит казавшиеся незаживляемыми раны, указывает, что они не были так глубоки, как это представлялось сгоряча. Осенью 1881 года старуха, с исполненным счастия сердцем, возвращается под сень сыновнего дома, где, вполне окрепшая в своем положении, жена его встречает ее с полным радушием и окружает такой заботой, что через несколько месяцев Марья Петровна пишет в Петербург:
«Как Клетя, так и Алексей очень ко мне внимательны, а первая заботится, как о ребенке... да, Николай, все высказанное тобой о Клете истинно, женщин каких мало, она вся в добре и желании угодить каждому; как она заботится о брате моем, как снисходительна к его резкостям, так себе иногда проскакивающим, зато же чтит он ее, любит, высказал мне, что так благодарен ей и Алексею, что покоят его и он всегда в родной семье, а теперь к довершению и я вместе, чего он так сердечно желал; нас, говорит, сердце мое, осталось только двое» [Письмо от 17 февраля 1882 г. — Там же.].
Мать примиряется с невесткой, побежденная ее добротой, Ольга Семеновна сохраняет непримиримость. Сдались, выходит, не все «кучера в юбках».
Возвращаюсь к приведенному мною письму моего отца к его матери. Много ли в нем тепла н сердечности? Судя по массе находящихся у меня писем Марьи Петровны к старшему сыну, от его писем всегда тянуло холодком. Зачастую ей выпадало читать жестковатые наставления и даже желчные указания. Детской радостью дышат ее письма к нему в ответ на сколько-нибудь приветливое и неукорительное слово «сурьезного человека».
Можно себе представить, каким праздником было для нее хотя раз в жизни почитать в столичном журнале во всяком случае лестные для себя, почти похвальные строки:
«А на ту пору прошел «холерный год» и произвел в приходском дворянстве сильное опустошение, «в господском звании весь мужской пол побывшился». Первый скончался мой покойный батюшка, а за ним переселились в вечность предводитель Иванов и «беспортошный» Илья Иванович. Имения остались без мужчин, и началось «бабье царство», при котором дошло до того, что мою матушку (благодаря бога поныне здравствующую) прихожане раз избрали «старостихою», т. е. распорядительницею и казначеею при поправке нашей добрынской церкви.
Выбирать к таким делам женщин совсем не в порядке, но так люди захотели, так и сделали. Не зная хорошо законов, сказали просто:
— Либо нехай Лесчиха справляет, либо ничего не дадим. Пусть воробьи не то что в окна летают, а хоть на головы попам сядут»[«Дворянский бунт в Добрынском приходе». — «Исторический вестник», 1881, № 2, с. 371.].
Такие полномочия и доверие в сороковых годах прошлого столетия у нас, несомненно, редко оказывались женщине, разве уж очень толковой и надежной.
Сам я видел мою бабку много раз, проводя летние вакации в Киеве, Каневе, вообще на Украине. Последний год ее жизни, зиму 1885/86 года я, по неожиданному решению моего отца, которому будет оказано внимание в одной из дальних глав, прожил в Киеве. Мне было девятнадцать лет, бабушке близился семьдесят третий. Была старость без дряхлости, трезвость мысли без равнодушия, суд о казавшемся несправедливым — не без гнева. Некоторым действам своего первенца она выносила приговоры, не уступавшие в своей выразительности его былым определениям о «кучерах в юбках». Николаю Семеновичу иногда что-то не нравилось в ее поздних письмах, и он, не без раздражения, делился этим недовольством с братом: «мать кое-что сообщает (Крохиным. — А. Л.), но, по обыкновению ее, растворяя содержание во множестве слов, затемняющих простой смысл сказания» [Письмо от 26 сентября 1885 г. к А. С. Лескову. — Арх. А. Н. Лескова.].
Все имеет свой черед, и, по общему закону естества, приходит последнее и неизбежное в жизни каждого смертного: 16 апреля 1886 года Марья Петровна умирает в своем уютном флигельке, до последнего вздоха во всем обслуженная и досмотренная сыном и всех больше его женой Клотильдой.
Ход событий, распределение ролей и высказанные умозрения определяются перепиской Петербурга с Киевом.
28 марта Алексей Семенович пишет Николаю Семеновичу. Последний отчеркивает синим карандашом слова, приводимые здесь курсивом, а наверху пишет чернилами: «Получ. 1 апреля 86. вечером».
«Мать получила сегодня твое письмо, любезный брат, и поручила мне поблагодарить тебя за память. Сама она не может писать, потому что лежит в постели. — Она, вообще, более месяца как стала очень плоха, потеряла всякий аппетит, почти ничего не ест, и желудок отказывается работать. С неделю тому назад она немного лишне выпила (?) (вопрос Николая Семеновича. — А. Л.), и у нее образовался острый катар желудка, с поносом и рвотою, которые в один день обессилили ее до того, что она слегла в постель, и хотя эти явления, слава богу, успокоились, но потеря сил настолько велика, что она вот уже трое суток как не в состоянии оставить постели. Сегодня утром, по ее желанию, пригласили домой священника (она еще не говела этим постом), и она встала, оделась, посидела часа два на диване, но вслед за тем разделась и опять улеглась, говоря, что очень устала и, может быть, заснет. — Состояние ее здоровья вообще плохо, хотя и нет никаких видимых явлений, указывавших бы на скорое банкротство жизненных сил, но 73 года, образ жизни, потеря аппетита, упадок сил — все это плохие предзнаменования, так что нельзя ни за что поручиться» [Арх. А. Н. Лескова.].
На два дня позже Алексея Семеновича больная находит в себе силы написать открыточку дочери: «Дорогая моя Оличька, будь на мой счет покойна, надейся на бога и что ему угодно будет со мной, я понемногу обмогаюсь, усмотрена решительно всеми как родная, одну не оставляют скучать, так будь же покойна. Благославляю вас мать М. Лескова. 30 марта» [Арх. А. Н. Лескова.].
14 апреля встревоженная дочь выезжает в Киев, а 15-го Николай Семенович пишет брату:
«Ольга уехала к вам вчера и, значит, теперь у тебя. Известие о матери, вероятно, роковое. — 73 года, по-моему, возраст большой, особенно для женщины, и силы организма, конечно, должны быть слабы. Только „аще в силах“ (т. е. очень здоров) можно жить 80 лет, но и то уже „не жизнь, а труждание и болезнь“. Тем не менее в семье это момент острый и жгучий. Ты соблюл свою роль на земле удивительно полно и хорошо, и тебе по обетованию должен быть заслуженный „венец правды“... Поехать в Киев не могу по нездоровью и по другим некоторым причинам. Матери главнейшее, конечно, видеть тебя, который о ней всех более пекся, и Ольгу, которую она наиболее любила и с которою имела более общего. Думаю, что мой приезд, так сказать, не имел бы никакого значения для больной, а притом я и болен. — 10 дней я положил костыли, а 2-х часов возобновленных болей в стопе вполне достаточно, чтобы я сел недвижимо. Вчера, провожая Ольгу, я постоял на мокрой каменной террасе и сегодня опять нездоров... Ольге скажи, что в П/етер/бурге с отбытия ее больших перемен еще не случилось...» [Арх. А. Н. Лескова. ]
Опасения оправдались — мать скончалась. Николай Семенович пишет:
«17 апр. 86. Четверг.
Спб. Сергиевская 56, 4.
Любезный брат Алексей Семенович!
Вчера, в 9 час. вечера получена у Крохина твоя депеша, посланная 16-го апр. в 2 ч. 20 минут. Мать, родившая и воскормившая нас грудью, во гробе... Течение жизни ее было не кратко и, как все земное, должно было иметь свое окончание, но тем не менее на душе томно и остро... Из всех ты один сделал все для ее спокойствия и соблюл любовь свою до конца, и за то тебе должно быть всех легче. Прекрасные свойства твоей верной души не только заставляют уважать и любить тебя, но они высоко умиляют, трогают и даже заставляют тебе удивляться. Ты все понес и все донес до конца превосходно. Тебе поистине принадлежит уважение всякой души, способной понимать величие простых, но величавых в своей простоте поступков. Большою бы радостию было, если бы ты был примером для всех, кто видел и знал все твои сыновние отношения к усопшей матери. Ты редкий сын н редкий человек. — Затем душа требует воздать должное твоей жене и благодарить ее. Нет никакого дела до того, что порою могло быть в ее сердце. Их счеты слишком спутаны и перемешаны. Сердцу приказывать нельзя, но все поступки Клотильды Даниловны были не только безукоризненны, но даже прекрасны. Она не останавливалась на том, что только должно, но смело переходила за черту должного и совершала дела, которые может совершать одна любовь, и любовь истинная и самоотверженная. Если не все это делалось из благодарности, а только по желанию облегчить страдания лица, с которым были и недоразумения и явные несогласия, то поступки эти тем многоценнее, тем реже и тем более должны внушать почтения к хорошим свойствам ее сердца. «Жизнь пережить не поле перейти» — многое наговоришь, а подчас и сделаешь такого, чего бы не одобрил спокойный разум и совесть, но блажен тот, кто умеет побеждать в себе зло добром и повести себя так, как вела себя по отношению к нашей матери Клотильда Даниловна. — Как сын усопшей, я с чувством искреннейшей благодарности кланяюсь твоей жене до сырой земли и целую ее руку. Если ею управляют даже одни навыки, то мы обязаны восхвалить их силу и значение в жизни. Она этими навыками облегчила многое суровое и грубое в родстве нашем. Она /.../с поражающей выдержкою соблюла мать до последнего ее вздоха. Да помянет это ей всегда св/ятое/ провидение и суд людей добрых и справедливых...» [Арх. А. Н. Лескова ]
Лесков Андрей Николаевич. Жизнь Николая Лескова