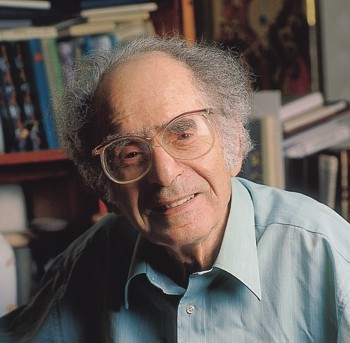Горе от ума
Несколько лет тому назад я упрекнул Бориса Хазанова, что он не замечает внутреннего кризиса западной цивилизации. Мой постоянный корреспондент ответил: цивилизация и есть кризис. Мне это показалось отговоркою. Но потом я понял, что мы оба правы, и его ответ — не пустой; но он не зачеркивает моей правоты. На самом деле, только очень давно, в доисторических, бесписьменных обществах не было кризисов. Трудности и катастрофы приходят извне, люди эти трудности сами не создавали, и потому не было необходимости ломать устои жизни, перестраиваться. Перемены все ж происходили, по крайней мере, у некоторых племен, — но так медленно, что их не замечали и принимали сегодняшнее за вечное и неизменное. Очень не скоро этот золотой век кончился и начались кризисы. Однако острые, заметные кризисы только случались, они не были чем-то постоянным. Кризис заканчивался либо крахом, распадом общества, либо новым устойчивым порядком. Так история Египта делилась на Древнее, Среднее и Новоецарство. Так римская республика уступила место империи. И после глубокого кризиса сложилось относительно устойчивое общество Средних веков. Разрыва между отцами и детьми опять не было, святыни не колебались.
Потом кризисы стали чаще, промежутки между ними короче. А сейчас ломка идет непрерывно. Постоянно рушится связь поколений, теряется тождество с самим собой, связь со священным и вечным. Люди, защитившие себя от стихийных бедствий, оказались во власти техногенных стихий, под угрозой экономического, экологического, информационного, духовного кризиса. Сейчас на каждом перекрестке нужен регулировщик. Не только в прямо смысле. Общество постоянно надо спасать, и усилия выйти из кризиса создают новые кризисы. Старым цивилизациям не хватало ума. Ум блистал в философии, но практика оставалась во власти преданий и предрассудков. Консерваторы с этим очень долго мирились, но темп перемен ускорялся, и традиция перестала отвечать на неотложные вопросы. Отвечать стал свободный разум. На первых порах это захватывало и вдохновляло. Гегель писал о величественном восходе солнца. А потом победа разума оказалась пирровой. Я говорю не об отдельных решениях, а о более глубоких следствиях рационализма. Достоевский создал притчу об этом в романе «Преступление и наказание».
«Неужели ты думаешь, что я, как дурак, пошел, очертя голову? — спрашивал Раскольников Соню. — Я пошел как умник, и это меня сгубило» Дело не в отдельной ложной идее, не в ошибке Раскольникова, а в ограниченности любой идейности. «Еще хорошо, что вы старушонку только убили, — говорил Порфирий Петрович. — А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали»
Порфирий Петрович оказался прав. Опыт последних веков показал, как опасно доверять логике, не поверяя ее сердцем и духовным опытом. Ум, ставший практической силой, опасен. Опасен научный ум со своими открытиями и изобретениями. Опасен политический ум со своими реформами. Нужны системы защиты от разрушительных сил ума, как на АЭС — от атомного взрыва. Ни один злодей, разбойник, садист не совершили столько зла, сколько энтузиасты благородных идей, прогрессивных идей, целенаправленного добра (я соединил в одной фразе мысли, высказанные несколькими моими современниками: Василием Гроссманом, Юрием Айхенвальдом, Наумом Коржавиным, Александром Галичем. Миллионы людей убивала идея окончательного решения, окончательного выхода из всех кризисов, идея прыжка из царства необходимости в царство свободы (или в другую утопию). Проекты разные, но итогом всех окончательных решений и ликвидации вредных классов было одно и то же: шигалевщина.
«Цицерону вырезывается язык. Шекспиру выкалываются глаза» Люди превращаются в образцовых севернокорейских коммунистов, изучающих чучхе.
Я смотрел передачу «Глас народа», когда обсуждался вопрос о памятнике Дзержинскому, и ото всей души согласился с г-м Харитоновым: Феликс Эдмундович Дзержинский действительно был символом добра. Того самого «добра с кулаками», которое легло в основу советской идеологии. Того самого, во имя которого был развязан ленинский красный террор и сталинский Большой Террор.
На том же «Гласе народа» поразил меня г-н Афанасьев, упрекнувший силовиков за недостаток идейности. Слава богу, что нет у них великой идеи. У Ленина она была, у Троцкого была, и у Гитлера была: тысячелетнее царство избранной расы. Без великой идеи всевластие силовых структур беспомощно. Оно может создать полицейское государство — и только. И не будем демонизировать В. В. Путина. Биография позволяет подозревать его в способности на некоторые тайные дела — но не на всемирно-историческую провокацию. Организовать убийство Кирова, а потом, под предлогом уничтожения убийц, пустить в ход Большой Террор,- на это нужна была воля, выкованная в жестокой борьбе, нужна была партия, связанная, по выражению Маяковского, «железной клятвой»; нужна была, по крайней мере, инерция великой идеи, за которую «на крест, и пулею чешите» Партия «Единство», слепленная из всякой всячины и задним числом ищущая общую идею, меня не пугает.
Идеи тоталитарных движений уходят в глубь великих эпох — Просвещения (у коммунистов) и Романтизма (у гитлеровцев). Большой Брат обещает покончить с невыносимым страданием. «Революция — самый безболезненный путь с точки зрения трудящихся масс,» — писал Ленин. Опыт, казалось бы, говорит, что машина террора убивает своих создателей и оставляет за собой руины. Но уроки истории, по словам Гегеля, никому не идут на пользу. Каждое время считает себя неповторимым. Каждое новой движение уверено, что оно учло ошибки своих предшественников. Ленин учел ошибки французских революционеров, мусульманские интегристы — ошибки диктаторов, действовавших без благословения Бога. И даже Баркашов критикует Гиглера, недооценившего славян. Новая версия тоталитаризма всегда уверена в своей творческой силе.
Однако дело не только в крайних формах административного восторга. Термин «административный восторг» был создан Щедриным на опыте царской администрации. А Роберт Белла опирался на опыт американской администрации, сформулировав задачу мыслящего современника: «удерживать деятелей от охватывающего их транса».
Современная цивилизация не может обойтись без вмешательства лекарей и без лекарств, дающих противопоказания, которые в свою очередь надо лечить, без растущего и растущего государственного попечения общество погружается в хаос и народ может просто вымереть. Но уму реформаторов даются только частные решения, лечение отдельных органов, а не оздоровление организма. Мы вынуждены жить, глотая пилюли, которые только смягчают болезнь. На Западе — хорошо подобранные препараты, дающие ощущение здоровья. У нас в стране-то подешевле. И мы поострее чувствуем кризис. Но кризис — общий.
Цивилизация в целом, т.е. совокупность Запада и вестернизированных стран, становится сложнее и сложнее и темп перемен — все стремительней. Один из моих знакомых прикинул, что масштабность изменений за 1800 лет после Р.Х. примерно равны переменам за следующие 180 лет (т.е. до 1980 г.), а эти 180 лет — следующим
Алистер Хулберт, эссеист, долгие годы работавший в одной из комиссий ЕЭС, писал, что государственные мужи Запада только делают вид, что они понимают, куда нас несет. И дело не только в ограниченности того или иного президента, премьера. Среди них попадаются люди довольно умные и даже способные к созерцанию. Мне рассказывали, что Конрад Аденауэр, приехав в Москву выручать немецких военнопленных, полтора часа просидел в Третьяковской галерее около своей любимой иконы. Конечно, это редкий случай, но можно вспомнить и другие. Беда в том, что даже выдающиеся умы беспомощно стоят на берегу потока перемен. Они не в состоянии охватить то, что уже сегодня бесконечно сложно и что становится еще сложнее. Развитие цивилизации есть развитие человеческой неспособности разбираться в жизни общества. Древние мудрецы разбирались в целостности человеческой жизни лучше, чем современные ученые. Взгляд с птичьего полета на гигантский поток времени, оторвавшегося от вечности, дается единицам, и даже эти единицы воспринимают целое как бы в тумане, не различая подробностей. А когда покров тумана рассеивается и что-то выступает ясно и отчетливо, никто не верит Кассандре.
В 1972 году, прочитав книгу Роберта Белла «По ту сторону верований», опубликованную двумя годами раньше, я был поражен сходством его мыслей с моими и мыслями нескольких моих соотечественников. Примерно в то же время я напасал свой «Эвклидовский разум»; десятью годами раньше Василий Гроссман создавал опыт о преступлениях добра, вошедшею в «Жизнь и судьбу» как записка Иконникова; десятью годами позже Юрий Айхенвальд готовил к публикации «Дон Кихота на русской почве» и набрасывал концепцию «кихотизма» (сердечного, спонтанного добра), противостоящего «целенаправленному добру», действиям на благо общества. На разных концах земного шара, в разных, непохожих странах мы думали об одном и том же: как защититъся от инерции мысли, потерявшей чувство своих священных границ?
Роберт Белла прекрасно знал, что существуют механизмы западной демократии, призванные отсекать наиболее нелепые решения, но знал и то, что эти механизмы не предотвратили ни войны во Вьетнаме, ни социальных и педагогических реформ, закончившихся провалом. У нас, в России, при неразвитости всякого рода гарантий, провалы были гораздо более страшными, но может быть поэтому острее противостояние любым идеям и системам. Иконников откровенно прославляет «дурью» доброту. Это заставляет вспомнить мнение Н. Ф. Федорова, что русский государственный строй — самодержавие, ограниченное институтом юродства. Эта неписаная конституция кое-что дает в периоды застоя, но не может спасти от катастрофы. Юродивый способен сказать: «Не могу молиться за Царя-Ирода...», «Не могу молчать!» Юродивый чувствует грех, чувствует «не тае» Но что делать дальше?
Юродство — низшая степень святости. Юродивый отметает несвятостъ несвятого, отталкивается от него и открывает ворота сердца. Но мыслить сердечно он не умеет, в мыслях он запутывается. Мыслить свято и в то же время ясно, мыслить целостно и отчетливо видеть по крайней мере некоторые важнейшие частности — очень редкий дар.
Такой дар есть у Антония Сурожского. Правда, он смотрит на современный кризис из своего угла и видит его прежде всего как кризис религиозного миросозерцания, кризис христианства, кризис православия. Многих вопросов вл. Антоний просто не касается. Но кризис священного — это ядро современного кризиса. По моему глубокому убеждению, именно здесь прячется выход из кризиса. Именно здесь может быть сделан первый шаг, и каждый должен сделать свой маленький шажок. Поэтому выступление вл. Антония на конференции в Сурожской епархии 8 июня 2000 года — историческое событие. Я прошу прощения у тех, кто читали «Русскую мысль» № 4327,
* * *
«У меня очень ясное, яркое чувство — нет, скорее темное чувство, — что, вступая в третье тысячелетие, мы вступаем в какую-то темную, сложную, в некотором смысле нежеланную пору. Что касается до церковности, вера должна остаться цельной, но мы не должны бояться думать свободно и высказываться свободно. Все это в свое время придет в порядок; но если мы будем просто без конца повторять то, что было сказано раньше, давно, то все больше и больше людей будут отходить от веры (я сейчас не столько о России думаю, сколько вообще о всем мире); и не потому что то, что раньше говорилось, неверно, а потому — не тот язык и не тот подход. Люди другие, времена другие, думается по-иному. И мне кажется, что надо вкореняться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно. «Свободно» не означает свободомыслия или презрения к прошлому, к традиционному, но — Бог рабов не хочет. «Я вас не называю больше рабами, Я вас называю друзьями...» И мне кажется это страшно важным: что мы могли бы думать и с Ним делиться. Есть очень многое, чем мы могли бы делиться с Ним в новом мире, в котором мы живем. Это очень хорошо и важно — думать свободно, не стараясь приспосабливаться; нужно, чтобы люди мыслящие и с широкой восприимчивостью думали и писали. Часто церковь, — я говорю о духовенстве и тех людях, которые считают себя сознательными мирскими — испуганы и бояться сделать что-то не то.
...(Я говорю в целом, не об отдельных людях). И не упускаем ли мы момент, данную нам возможность стать из церковной организации — Церковью...
...Если по форме многим это кажется неприемлемыми, то по существу, думаю, это не неприемлемо. Думаю, по существу я не отхожу от духа Церкви, от духа святоотеческого и т.д. говорю на другом языке, другим людям. Я думаю, что то же самое говорили о многих отцах не беря Кирилла Александрийского, но о целом ряде других: «новшество, фaнтaзepство» .. Этих слов тогда не было, но подход был такой. Я думаю, что сейчас у Церкви долгий кризис...
... После всех этих лет, когда можно было Церкви продолжать существовать только крайней верностью всей форме, конечно, очень страшно начать думать и начать ставить вопросы. Удивительно, что в древности отцы Церкви только тем и занимались, что вопросы ставили. Если они ответы давали, то потому что сами же и вопросы ставили. Ответы не падали с неба на несуществующие вопросы. Причем эти вопросы, которые были обращены к людям, окруженным язычеством, т.е. совершенно инородным опытом и инородным мировоззрением. И вот нам надо это принять в учет. В христианской стране сейчас никто не живет. Есть герои духа и люди, верные Евангелию, и т.д., но говорить о странах, что они христианские, больше не приходится. Так же неверно говорить, скажем, о русском православии.
Скажем, здесь (в Лондоне) меня сейчас очень упрекает целая группа людей (не очень многочисленная): вы, де, изменили русскому православию, потому что строите не Русскую Церковь... А я с самого начала говорил: мы строим Церковь, как можно больше похожую первоначальную древнюю Церковь, когда людей, абсолютно ничего общего между собой не имущих, одно только соединяло: Христос, их вера: Стояли рядом раб и господин, люди всех возможных языков. К этому я стремился здесь: чтобы люди какие угодно могли прийти и сказать: да, у нас общее одно: Бог... И мне кажется, что в этом разрешение проблемы. Поэтому-то, если мы начинаем говорить о русском, греческом или ином православии — мы теряем людей.. Дело не в том, что «мы» как приходы теряем людей. Но еще сорок с лишним лет назад я говорил с епископом Иаковом Аламейским, очень хорошим человеком и священником. Он мне говорил: знаете, мы теряем полтораста человек молодежи в год, потому что они отбились от греческого языка... Я спрашиваю: почему их не посылать к нам? — Нет, мы предпочитаем, чтобы они пропали, чем передать в «чужую» Церковь... Вот против чего я боролся и буду бороться. Потому что нам нужны верующие — люди, которые встретили Бога. Я не говорю в грандиозном смысле, не каждый может быть апостолом Павлом, — но которые хоть в малой мере могут сказать: я Его знаю! И он, и она, — они тоже нечто подобное знaют, и мы можем вместе стоять, даже если у нас обычаи иные. А обычаи тоже вещь такая, которая перерабатывается несразу.Я хотел бы иметь возможность еще один год вести русские беседы, вернуться к каким-то основным вещам, НO B этих основных вещах, может быть, будут моменты, которые не будут восприняты с симпатией... Отец Георгий Флоровский мне как-то сказал: знаете, нет ни одного отца, у которого нельзя найти ереси, за исключением Григория Богослова, который был такой осторожный, что ничего лишнего не сказал... Так что у всех найдут что-нибудь. Но тогда возьми то, что сказано и что тебе кажется неверным, продумай и скажи свое; причем не обязательно раскритикуй, а скажи: вот, на основании того, что я слышал, какие мысли мне приходят, и посмотрим, как они дополняют или исправляют другое... Я думаю, что очень важно, чтобы сейчас мы мыслили и делились мыслями — даже с риском, что мы завремся, — кто-нибудь нас поправит, вот и все.
Помню, как я был смущен, когда Николай Зернов пятьдесят лет назад сказал мне: «Вся трагедия Церкви началась со Вселенских соборов, когда стали оформлять вещи, которые надо было оставлять гибкими» Я думаю, что он был прав, — теперь думаю, тогда я был в ужасе. Это не значит, что Вселенские соборы были не правы, но они говорили то, до чего они дожились. И с тех пор богословы тоже до чего-то дожились... Скажем, отца Сергия Булгакова считали еретиком, а теперь многие совсем по-иному на него смотрят. И то неправильно, и сё неправильно. Есть у него вещи, которые неприемлемы, а есть и наоборот...
Митрополит Сурожский Антоний: «Я хочу говорить только о том, что созрело у меня на душе...» (записала Елена Майданович)
Заглавие этому тексту придумала редакция. Я бы назвал его иначе: Как открыть Святому Духу путь в человеческое сердце? Как дать Богу возможность спасти нас? Потому что во Вселенной есть одно место, где нет Бога: человеческое сердце, загородившееся от Него. В том числе буквой святого Предания.
2000 г.
pomeranz.ru