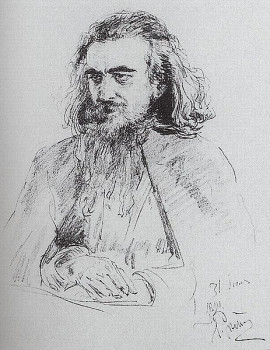Φυλάξατε ἑαυταοὺς ἀπò τῶν εἰδόων.
Храните себя от идолов.
(1 Посл. ап. Иоан., V, 21)
Не так давно издан небольшой сборник слов и речей одного из наших досточтимых пастырей церкви. За немногими исключениями эти слова и речи вызывались разнообразными фактами нашей текущей действительности, случаями из местной общественной жизни, иногда официального, иногда неофициального характера. Там же помещена, между прочим, и последняя речь, обращенная к дворянам Петербургской губернии перед их присягою. «Я считаю своею священною обязанностью, — сказал духовный оратор, — пред приведением вас к присяге напомнить вам, что настоящее ваше очередное собрание, как и текущие собрания дворянства всей русской земли, совершается при обстоятельствах выдающихся, при условиях в высшей степени знаменательных». А именно, «доблестное российское дворянство призывается ныне к великому земскому строению, ему вверяется ближайшее попечение о благе народа... И какого народа? И в какую историческую минуту? Народа русского, православного, христианнейшего по природным своим свойствам, народа истинно христианского по своей православной вере. Как старшая братия, как лучшая передовая дружина этого народа святого, этого нового Израиля, умейте стоять на высоте вашего призвания, умейте быть носителями в своем сердце и выразителями в своей жизни и деятельности его лучших свойств, его возвышеннейших стремлений, его христианского смирения, его беспредельной преданности Богу и вере православной, своему царю и отечеству. И в какую историческую минуту призываетесь вы к попечению о благе этого народа? В минуту, когда его самосознание идет вперед поступью богатырскою, когда понимание им своего всемирно-исторического просветительного призвания растет не по дням, а по часам, когда его вера в это призвание все крепнет и крепнет...
Русскому народу, как древнему Израилю, вверены словеса Божии. Он носитель и хранитель истинного христианства. У него истинное богопознание, у него вера истинная, у него сама истина. А истина дает ему основы христианской свободы, свобода же созидает его в христианской любви. Это так же непреложно, как непреложен Господь и его божественное слово. Итак, — еще раз повторяет красноречивый оратор, — у русского народа истинное христианство, истинная вера, истинная свобода, истинная любовь, у него православие. Вот какого народа и в какую историческую минуту призываетесь вы стать передовою дружиною! Вот о чьем благе попечение вверяется вам!.. Попечение о благе народа истинно христианского, народа святого, призванного просветить и обновить лицо земли».
Такая отрадная всем нам уверенность высказывается досточтимым оратором, конечно, как внушенная ему сердцем ревностного, горячего патриота, и никто не может ожидать, ни требовать, чтобы все им сказанное было выводом из непреложных данных священного писания или священного предания. Ни в том, ни в другом нет, конечно, ни подтверждения, ни отрицания самых лучших для нас представлений о нашем отечестве и его высшем предназначении, и именно потому все это, как принадлежащее, по существу, к области мирских мнений, может оставаться предметом всестороннего обсуждения. И мы, со своей стороны, говоря об этих вопросах, хотя бы и по поводу пастырского слова, можем нисколько не вторгаться в неподлежащую нам сферу духовного учительства.
Притом, в краткой и торжественной речи оратору трудно выяснить каждую свою мысль до конца, и многие его изречения по необходимости остаются совершенно неопределенными. Но весьма прискорбно, когда благолепные слова, исходящие из уст пастыря церкви, воспроизводятся и перетираются как дешевая прикраса для фальшивого патриотизма, менее всего озабоченного истинным благом и величием родины. Нет возможности и на минуту допустить, чтобы наш духовный оратор действительно принимал вышеприведенные слова и фразы в том смысле, в каком ими ныне так часто злоупотребляют в светской литературе. Относительно некоторых мест речи это даже вполне очевидно. Так, например, здесь высказывается полное сочувствие и одобрение тому, что наше высшее сословие призвано к великому земскому строению и что ему вверено ближайшее попечение о благе русского народа. Ясно, однако, что досточтимый оратор никак не может быть в этом вопросе солидарен с теми писателями и общественными деятелями, которые особенно настаивают на такой постановке дела и употребляют те же самые слова, но при этом руководствуются тем мнением, что будто русский народ, предоставленный самому себе, от безмерной свободы вконец спился и изворовался, а потому необходимо его как можно крепче подтянуть с помощью высшего сословия, оно же найдет тут и свою собственную выгоду. На языке этих публицистов и деятелей (выставляющих себя обыкновенно, хотя и напрасно, истолкователями правительственных взглядов) «великое земское строение» обозначает усиленное и систематическое обуздание народа, а предоставление одному сословию ближайшего попечения о русском народе знаменует (по крайней мере, в идеале) возвращение к золотому веку крепостного права — без народных школ, но зато с «сотней тысяч полициймейстеров», по выражению императрицы Екатерины II. Такие «благочестивые пожелания» (коих полное осуществление принадлежит, конечно, к области поэтических грез) открыто обосновываются или на том, что русский народ не дорос до свободы и грамотности, или же на том, что вообще никакой свободы и никакой грамотности не нужно, а нужны только привилегии. Но наш духовный оратор, очевидно, имеет и о русском народе, и о свободе и просвещении совершенно иные, и даже прямо противоположные понятия. Следовательно, у него должны быть и другие, разумные и достойные мотивы, чтобы сочувствовать исключительному положению того или другого сословия, хотя, вообще говоря, такой взгляд на отношения между сословиями остается для нас недостаточно вразумительным. Русский народ (в тесном смысле) независимо от прочих сословий представляется как народ христианнейший по природным своим свойствам, народ святой, у которого сама истина; но как с этими качествами согласовать необходимость для такого народа быть под опекой какого-нибудь сословия? Правда, досточтимый оратор, указавши без всяких ограничений на абсолютные совершенства опекаемого народа, называет затем опекающее сословие лучшею частью этого народа, его передовою дружиною. Но разве есть что-нибудь лучше святости, и разве можно быть впереди истины?..
I
На русский народ или, точнее говоря, на взаимоотношение в нем высшего и низшего классов существует у нас два крайних взгляда, противоположные друг другу и, однако же, во многом существенном сходящиеся между собою; первый из них я назову крепостническим, а второй — народопоклонническим.
Согласно первому взгляду, русский народ (в тесном смысле, т. е. простонародье) обречен на вечное или, по крайней мере, неопределенно продолжительное гражданское, экономическое и культурное несовершеннолетие; оставленный без властного и строгого присмотра, он может только спиться и извороваться, как это показывает будто бы недавний опыт; высшее же сословие, напротив, имеет в себе некую vertu occulte, вследствие которой оно спиться и извороваться не может, но всегда остается на высоте своего призвания. А отсюда прямой вывод: «худых людишек», «мужиков» отдать на щит, — я хочу сказать — на попечение «лучшим людям», «доблиим мужам». Заключение совершенно правильно, но основные положения, из которых оно выводится, содержат в себе несколько довольно незамысловатых неправд. Во-первых, предполагается какой-то рок, судьба или предопределение, по которым простой народ должен всегда производить худых людишек, а высшее сословие — доблестных мужей. Такого рока, как известно, вовсе не существует, и всякое сословие в массе своей состоит из более или менее плохих людишек. Нашим крепостникам272 приходится поневоле для поддержания своего взгляда представлять и народ, и дворянство в крайне ложном свете: с одной стороны, все воры да пропойцы, а с другой — все Пожарские, спасающие Россию (а кстати, и свои заложенные имения). Конечно, наш простой народ, как и всякий другой, весьма далек от идеального совершенства; но ведь этим господам нужно, чтобы он был как можно хуже, — на его недостатках и пороках зиждутся их собственные притязания; поэтому, малюя фальшивыми красками свою мрачную картину, они наверное не станут заботиться об исправлении действительных зол и бедствий народной жизни. Здесь вторая главная неправда этого направления. Попечение о народе оно разумеет исключительно в смысле его муштрования и подтягиванья, а никак не в смысле его внутреннего духовного развития. Для этого последнего необходимы известные образовательные средства, коих основание есть грамотность. И именно на нее-то и восстают наши попечители о народном благе. Обвиняют народ в том, что он спился, но ратуют не против кабака, а против школы. Оно и понятно: от кабака народ делается таким, каким он им нужен, тогда как чрез школу он может сделаться просвещеннее самих опекунов, получивших иногда высшее образование в конюшне или в оперетке. Таким образом, проповедь строгой опеки над народом непременно соединяется у этих доблестных мужей с требованием закрытия школ.273 Вред грамотности становится аксиомой. Привилегии одних и безграмотность народа — вот два столпа, на которых зиждется социальная утопия этих «собственных Платонов земли Российской».
Если людям, спасающим Россию от просвещения, нужно, чтобы народ был как можно хуже, а для этого им нужно сократить школы, то отсюда же вытекает логически и третья их неправда. А именно, им приходится как можно более сузить самое дворянство, ограничить его одними питомцами привилегированных учебных заведений и кадетских корпусов, исключить из него всю прочую так называемую «интеллигенцию», так называемых «разночинцев» и так называемых «семинаристов», т. е. людей, наиболее содействовавших верховной власти со времен Петра Великого в деле просвещения России. В этом их и вина, за это они должны быть искоренены. Кто более способен обучать и воспитывать, нежели подтягивать, тот, очевидно, не годится в ряды передовой дружины, устремившейся к великому земскому строению. Наши публицисты-охранители уже с полною откровенностью высказывают свои мечты о закрытии не только народных школ, но также гимназий и университетов. Это, во всяком случае, делает честь их последовательности и сообразительности. Они ясно видят единственный способ уничтожить ту «интеллигенцию», которая стоит поперек пути к их идеалу. Петр Великий создал ее посредством училищ; упраздните училища, и скоро вся эта «интеллигенция» исчезнет сама собою, даже без всякого кровопролития. А с ее исчезновением патриотический идеал этих «пророков навыворот» осуществится вполне, в России останутся только безграмотный и безгласный народ, с одной стороны, а с другой — «сто тысяч» екатерининских полициймейстеров, беспрепятственно переводящих этот народ на положение безземельных батраков.
А между тем все эти противоестественные вожделения, эта «мерзость запустения», поставленная на место идеала, — все это имеет своим первоначальным побуждением нечто невинное и позволительное — заботу о своих собственных интересах. Но подобная забота, совершенно законная в пределах частной жизни, становится источником всевозможных неправд и зол, как только ее особенный предмет возводится в общий принцип, выставляется как высшая общественная задача. Религия запрещает нам почитать ограниченные предметы вместо бесконечного Божества; такие обожествленные предметы она осуждает как идолы и служение им как идолопоклонство. Точно так же в нравственной и социально-политической жизни, если частные интересы какой бы то ни было группы людей ставятся на место общего блага и преходящие факты идеализуются и выдаются за вечные принципы, то получаются не настоящие идеалы, а только идолы. И служение этим сословным, национальным и прочим идолам, как и идолам языческих религий, непременно перейдет в безнравственные и кровожадные оргии.
Истинным Богом может быть только существо, обладающее полнотою совершенства; истинно человеческим идеалом может быть только то, что само по себе имеет всеобщее значение, что способно все в себе совместить и всех объединить собою. Едва ли, однако, найдется такой наивный человек, который искренно воображал бы, что особенные интересы его сословия или нации могут объединить все сердца. И прежде всего сами эти сокрушительные охранители и попятные пророки обнаруживают злобную и непримиримую вражду против всех и всего, что не может или не хочет служить их интересам: затаенную вражду против крестьян, открытую вражду против школы, которая должна поднять духовный уровень народа, неистовую вражду против образованного класса, который должен через школу содействовать народному благу. Эта триединая вражда к простому народу, к школе и к «интеллигенции» заслоняет даже своекорыстные сословные расчеты и становится настоящим spiritus movens всей ретроградной публицистики, сообщая ей прямо злостный характер.
II
В противоположность крепостникам, народопоклонники утверждают, что наш простой народ, несмотря на свои явные недостатки и пороки, несмотря даже на свой, как выражался Достоевский, «звериный образ», обладает, однако, абсолютною правдой, «имеет в себе Христа», живет по-Божьи; между тем как образованный класс, при всех видимых внешних преимуществах, утратил внутреннюю правду жизни, предался ложным и суетным интересам, и потому не только не может вести за собою простой народ, но для собственного своего исцеления должен смириться перед народом, принять безусловно сущность народного миросозерцания, научиться у народа истинным началам жизни. Отрицательные преимущества этого взгляда велики и очевидны. Он свободен от мелкого своекорыстия и грубого насильничества; в нем нет ничего скотского и ничего человекоубийственного; от него не пахнет ни случною конюшней, ни становою квартирой. Эти сравнительные достоинства не мешают, однако, народопоклонничеству быть взглядом ложным в своих теоретических основах и далеко не безвредным в своих практических применениях.
Для точной оценки этого взгляда необходимо различать в нем две главные стадии. На первой народопоклонники требуют от себя и от других соединиться с простым народом главным образом в его непосредственной религиозной вере; на второй стадии требуется уподобление народу в его жизни, подражание его простому быту.
Указание на религиозный дух русского народа, на его непосредственное христианство, вообще говоря, справедливо. Но ведь именно непосредственной-то вере и нельзя научиться. Проявления народной веры могут, конечно, оказывать положительное религиозное воздействие на восприимчивые и предрасположенные к таким влияниям души; но это только индивидуальная психологическая возможность, а никак не общеобязательное нравственное требование. Вера и теряется, и приобретается самыми различными способами, смотря по характерам лиц и условиям жизни. И с положительно-религиозной точки зрения она есть действие в нас благодати Божией, избирающей себе всевозможные пути, а от нас требующей только добросовестного искания истины и готовности принять ее. Нарочно, по преднамеренному решению учиться у народа его «детской вере» — мысль, очевидно, неосуществимая. Вера есть внутреннее душевное состояние, и перенимать его нарочно от других нельзя. Но если бы и было можно, то, во всяком случае, такая, извне перенятая вера не была бы верою непосредственною, значит, не была бы именно тем, что требовалось. Помимо того, что многие культурные люди сохранили, несмотря на европейское образование, свою «детскую веру», и, следовательно, им совсем уже нечему учиться у народа, — помимо этого нельзя избежать следующей дилеммы. Или мы находим внутренние всеобщие основания достоверности для учений положительного христианства, независимые ни от каких людей и народов; в таком случае мы без всякого намерения и старания внутренне солидарны и с русским народом, поскольку он «детски» верит в то же самое, сознательно нами принимаемое учение; мы находимся с ним в истинном духовном единстве, и нам нет никакой надобности смиряться перед ним, подражать ему, учиться у него; напротив того, мы имеем и возможность, и право, и обязанность учить его, критически относясь к тем его верованиям и к тем фактам народной жизни, которые не согласны с христианской истиной. Или же — другое предположение: мы не имеем в себе никаких внутренних и всеобщих оснований для веры в христианское учение и потому хотим взять это учение у народа как внешний готовый факт; в таком случае мы можем усвоить только внешние знаки народной веры — пустые слова и механические телодвижения; ибо душевные состояния, с этими знаками связанные, имеют свои основания в народной психологии и искусственно воспроизведены быть не могут. Уже то обстоятельство, что мы хотим перенимать извне веру народа, тогда как сам он ее не перенимает, а имеет в себе, — уже это обстоятельство показывает, что мы с народом не солидарны и вере его не причастны, а перенять можем только одну видимость. При этом теряется всякий критерий истины; мы не можем различать существенного от несущественного, веры от суеверия и становимся жертвой всевозможных случайностей и противоречий. Так, например, доселе остается тайной, почему никто из наших образованных народоверцев не перешел прямо в старообрядчество. Если для них главное дело в простонародной русской вере, то разве это не простонародная и не русская вера? Конечно, им пришлось бы выбирать между множеством толков, но это такое неудобство, которого при их воззрении вообще избежать невозможно.
Делать истинную религию атрибутом народности могут, конечно, только люди, в сущности, лишенные религиозного интереса, или по крайней мере такие, у которых он очень слаб, что и должно рано или поздно обнаружиться. Ввиду этого и при явной невозможности нарочно соединиться с народом в вере, которой сам в себе не имеешь, более искренние и серьезные люди этого направления, не желающие кривить душою и твердить одни пустые фразы, принуждены отказаться от вероисповедного элемента в своем воззрении и вместо чуждой им веры русского народа выставить как предмет поклонения столь же чуждую, но более доступную простоту народного быта. Здесь уже идолом является не русский народ в его духовных началах, а жизнь простого народа вообще. Это вторая стадия народопоклонничества. Теперь уже нам не говорят: веруйте как мужики, — а только: живите как мужики. Это новое требование имеет, конечно, преимущество удобоисполнимости. Переменить внешний образ своей жизни всякий может по желанию. Спрашивается только: нужно ли это?274
Простота народного быта, так же как и простота народной веры, не представляет сама по себе никакого внутреннего духовного совершенства; самые простые формы жизни и самые глубокие непосредственные верования могут совмещаться и действительно совмещаются не только с умственною, но и с нравственною дикостью. Ни та, ни другая простота не освобождают народную массу от того «звериного образа», о котором говорил Достоевский и который так ярко изображен Л. Толстым в его драме «Власть тьмы». А если простая жизнь, так же как и сложная, может быть и хорошею, и дурною, и доброю, и злою, если могут быть простонародные злодеи и образованные праведники, то зачем же понятия нравственного добра и зла подменять безразличными в нравственном смысле понятиями простоты и сложности? Простота жизни и веры, не имея в себе никакого безусловного нравственного преимущества, лишена к тому же и внутренней силы сопротивления, у нее нет никакой устойчивости и прочности. Если при первом столкновении с более сложными культурными формами жизни и мысли эта первобытная простота неизбежно колеблется и исчезает, то какой же в ней прок и зачем нужно ее искусственно восстановлять? Ведь она уже обнаружила свое двойное бессилие: она бессильна освободить народ от его «звериного образа» и она бессильна сама устоять против культурных осложнений и овладеть ими. Нарочно и искусственно восстановлять эту явно несостоятельную простоту может быть только детскою забавой, строением карточных домиков: чем-то и бесполезным, и непрочным.
Для жизни, как и для мысли народа, желательны формы более совершенные и устойчивые, а для этого нужна внутренняя работа сознания и воли, нужно умственное и нравственное развитие, деятельность разума, усвоение научной истины, одним словом, нужна образованность, не как цель сама по себе, не как безусловное благо, а как необходимое средство для укрепления, развития и полнейшего осуществления всех добрых начал жизни и веры. И если существует и в России класс сравнительно образованный, то его патриотическая задача и нравственная обязанность заключаются не в том, чтобы искусственно усвоять себе первобытное состояние народной массы, состояние столь несовершенное и столь непрочное, а в том, чтобы помочь этой массе освободить скрытый в ней образ Божий от того «звериного образа», который не отрицают и народопоклонники. А этого можно достигнуть, конечно, не чрез пренебрежение к образованию и к науке, а, напротив, только чрез их укрепление в нас самих и распространение в народе. Стыдно и горько настаивать на такой азбучной истине; но что же делать, когда ее ныне не только оспаривают, но и прямо объявляют отжившим заблуждением?
III
Против наших крепостников, с одной стороны, против народопоклонников и упростителей — с другой, мы осмеливаемся утверждать, что задача образованного класса относительно народа состоит не в том, чтобы его подтягивать и эксплуатировать, а также и не в том, чтобы ему поклоняться и уподобляться, а в том, чтобы приносить ему действительную и положительную пользу, заботясь не о его безгласности, а также и не о сохранении его первобытной простоты, а единственно только о том, чтобы он был лучше, просвещеннее и счастливее; а для этого трудиться над возможно полным и широким развитием и распространением общечеловеческого образования, без которого и самые добрые качества народного духа оказываются непрочными и в социально-нравственном смысле бесплодными. Защищать систематически этот взгляд ввиду навалившего ныне с двух сторон обскурантизма кажется мне делом необходимым. Такая защита будет вместе с тем и дальнейшею положительною критикою обоих противоположных заблуждений — крепостничества и народопоклонства (с упростительством). Итак, разберем главные преимущества этого третьего взгляда.
Первое и основное его преимущество — в том, что он по существу христианский, хотя бы его представители и чуждались всякого ограниченного клерикализма и пиетизма. Во всяком случае, они на деле показывают свою веру в христианского Бога, в Бога как бесконечное совершенство, полагая свой идеал в том, что имеет внутреннее, безусловное достоинство, во всеобщем благе, в торжестве правды, а не в таких вещах, которые чужды христианской вере и безразличны в нравственном смысле, каковы, например, сословные привилегии или простота внешних бытовых форм. Ставя идеал общественной правды и всеобщего блага впереди, в будущем, не признавая его совершившимся фактом (что было бы противно очевидной действительности), но и не отрицая его осуществимости (что противоречило бы христианской истине), наш третий взгляд не только не отказывается от лучших евангельских упований, выраженных в молитве Господней о пришествии к нам царства правды, о совершенном исполнении воли Божией на земле, но и заставляет нас собственным трудом содействовать осуществлению этих упований, что также требуется евангельским учением (см. притчу о талантах). Не изменяя христианской вере и не отрекаясь от христианской надежды, взгляд этот соответствует и христианской любви, будучи совершенно чужд эгоизма. Не говоря уже о явном сословном своекорыстии наших проповедников крепостничества, — есть эгоизм, хотя и менее грубый, в воззрении народоверцев и упростителей. Люди, преклоняющиеся перед простотой и непосредственностью народной веры, могут видеть в ней убежище от сомнений их собственного ума; но они ничего не сделают для того, чтобы эта вера стала просвещеннее и разумнее, а тем самым и крепче. Люди, подражающие простоте народного быта, могут на лучший конец найти в физическом труде лекарство от своих страстей и недугов, но они ничего не сделают, чтобы улучшить условия народной жизни, чтобы облегчить ее тягости. И те и другие в своем смирении перед народом, в своем опрощении и уподоблении ему ищут только своего собственного удовлетворения, своего душевного спокойствия, а никак не пользы народа. Особенно что касается до упростителей, то их эгоизм бросается в глаза, и на него, если не ошибаюсь, уже было указано в печати. И какая, в самом деле, может быть польза народу от того, что горсть «интеллигентов» прикинется мужиками или рабочими и вместо прежних своих занятий и забав отдастся исключительно этому новому виду спорта? Действительная любовь дает понимание. Если бы наши опростившиеся народопоклонники действительно любили народ, они поняли бы, что ему нужно, чего он хочет от образованных людей. Но они, смиряясь перед народом, вовсе и не интересуются знать его мнение даже о них самих и об их затее.
Как нет тут действительной любви, так нет и истинного смирения. Есть обязательное для всякого человека смирение перед тем, что в самом себе заключает безусловно совершенство, перед тем, что само по себе истинно и прекрасно, перед вечною объективною правдою и ее прямыми воплощениями, где бы и в ком бы они ни являлись. А смирение перед чем попало, по собственному своему усмотрению, есть смирение перед своим произволом, т. е. вовсе не смирение, а просто самодурство. Настоящее смирение следует нам поберечь для таких предметов, которые одинаково выше и нас, и народа, а этот последний будет нами вполне доволен, если мы отнесемся к нему с внимательным участием, вникнем в то, что ему действительно от нас нужно, и, нисколько не стараясь уподобляться ему внешним образом, покажем нашу внутреннюю, нравственно органическую солидарность с ним, пользуясь в полной мере нашим от него отличием, нашим культурным старшинством, чтобы дать ему то, чего он без нас добыть не может. Это единственный способ оказать ему действительную любовь и показать на деле свои христианские принципы.
Таким образом, первое преимущество защищаемого нами взгляда само собою приводит ко второму. Будучи истинно христианским, этот взгляд есть вместе с тем истинно народный. Только на его почве может установиться взаимное сочувственное понимание между образованным классом и простым народом. Конечно, народ мог бы хорошо понять проповедников крепостничества, но едва ли бы он им сочувствовал. Что касается народопоклонников, то они простым людям совсем непонятны. Образованный человек, не из искреннего благочестия и веры соблюдающий посты или поклоняющийся иконам, а только потому, что так делает народ, был бы этим последним наверное сочтен за полоумного275; точно так же образованный человек, пашущий землю без нужды, а лишь из одного стремления опроститься и уподобиться народу, возбуждает в крестьянах если не подозрения, то насмешки. Но образованный человек, занятый своим делом, служащий культурным интересам страны, каковы бы ни были его частные мнения и верования, может рассчитывать на уважение и признательность народа даже в том случае, когда его деятельность не имеет прямого отношения к народным нуждам.
Что культурное осложнение жизни неизбежно сопровождается осложнением человеческой глупости и гадости, появлением множества новых безобразий и вздоров, невозможных в патриархальном быте, это бесспорно, и народ, конечно, замечает эту отрицательную сторону культуры, но чтобы он из-за нее отрицал или презирал самое просвещение — это выдумка. В отличие от наших обскурантов, народ в высшей степени уважает науку. Он сознает свою темноту и вовсе не желает в ней навсегда оставаться; в ученье он видит свет и не особенно боится даже «лжеучений».
Будучи христианским и народным, наш взгляд — это его третье преимущество — есть взгляд исторический, тогда как обе противоположные крайности крепостничества и народопоклонства сходятся и в этом отношении, отличаясь своим антиисторическим характером. Они желали бы остановить историю и вернуть человечество или по крайней мере наш народ к минувшим, более или менее отдаленным эпохам. В этом одном уже явное обличение их несостоятельности, несомненное testimonium paupertatis. С нашей точки зрения, напротив, общий ход истории человечества, и русской в частности, объясняется и оправдывается как совершенно целесообразный. Признавая окончательною целью истории полное осуществление христианского идеала в жизни всего человечества, осуществление правды и любви, или свободной солидарности всех положительных сил и элементов вселенной, мы понимаем всестороннее развитие культуры как общее и необходимое средство для этой цели, ибо эта культура в своем постепенном прогрессе разрушает все враждебные перегородки и исключительные обособления между различными частями человечества и мира и стремится соединить все естественные и социальные группы в одну бесконечно разнообразную по своему составу, но нравственно солидарную семью. Поэтому, хотя бы отдельные ступени этого процесса и не давали непосредственного удовлетворения тем или другим лицам, тем или другим классам людей, они тем не менее необходимы ради окончательной и всеобщей цели. Мы не противополагаем гуманного просвещения религиозной вере, но полагаем, что такое просвещение необходимо и для самой веры. Исторический опыт как чужих народов, так и наш собственный достаточно показывает, к чему может приводить сильная (или кажущаяся сильной) вера при слабом просвещении. Итак, ближайшая цель исторического процесса и нашей общественной деятельности есть полное развитие и распространение гуманной культуры, которая составляет необходимый элемент и самого христианства, как религии бого-человеческой. Над этою ближайшею и насущною задачей можно и должно работать сообща, несмотря ни на какие различия в личных взглядах на дальнейшую и окончательную цель истории. С нравственной стороны такая культурная работа есть не что иное, как наиболее целесообразно организованная помощь нашим ближним, в совокупности взятым, а такая помощь (omnibus quantum potes juva) по общему моральному закону обязательна для всякого, будь он по вере христианин или просто гуманист, лишь бы он признавал нравственные обязанности к человечеству. Личные и национальные особенности культурных рабочих очень важны и желательны для самого дела; они дают общечеловеческой культуре ее богатство, полноту и разнообразие, нисколько не нарушая ее единства. Можно говорить о национальных культурах только в том смысле, в каком говорится о немецкой, английской, русской науке, причем вовсе не предполагается, чтобы у каждого из этих народов была своя особенная, исключительно ему принадлежащая, для него одного имеющая значение математика или химия. Таким же образом и вообще, при всем разнообразии культурных характеров и направлений, все-таки в смысле объективном — в смысле задач и результатов исторического труда — существует только одна общечеловеческая культура для всех народов, как одна для всех истина, одна справедливость, одно Божество.276
Пока совершается исторический процесс в нынешних земных условиях, прямое и деятельное участие в культурной работе, дело созидания самой культуры не может принадлежать равномерно всем людям. Помимо различия между более или менее одаренными народами и племенами, в каждом народе и племени двигателем культурного прогресса может быть только избранное меньшинство, а не народные массы, слишком занятые материальным обеспечением — и себя, и передового меньшинства. Разумеется, это последнее, чтобы служить общему благу, а не своим частным интересам, не может представлять замкнутую касту, а должно быть открытым для всех личных дарований. Дело не в обособлении классов по случайным преимуществам, а в разделении труда по способностям. Вообще разделение труда есть первое условие и первый признак цивилизации, а в основе всех прочих разделений труда лежит главное и общее разделение исторической работы между большинством, сохраняющим жизнь человечества посредством физического труда, и меньшинством, улучшающим эту жизнь, двигающим человечество вперед. Этого разделения нет в диком состоянии, его не будет в грядущем Царствии Божием, но между этими двумя пределами оно всегда было и будет. Оно так же мало противоречит справедливости, как, например, то, что не все ткани даже самого высшего организма могут быть нервными клеточками и волокнами. Организмов, состоящих из одних таких высших элементов, вовсе не бывает в нашем мире; организм, не имеющий совсем этих элементов и потому более равномерный в своем составе, может существовать, но это — организм низшего порядка. Оставляя, впрочем, в стороне сравнение между обществом и организмом, так как его законность может оспариваться и им действительно много злоупотребляли, едва ли кто-нибудь найдет несправедливым, что не все греки, а только один Фидий изваял статую Зевса Олимпийского: если он ее предоставил всем, то этого совершенно достаточно для самого тонкого чувства справедливости. Я решительно не вижу никакой обиды для народных масс в том, что они не сами изобрели паровую машину, — лишь бы только они имели возможность дешево пользоваться железными дорогами и прочими приложениями паровой силы. Я ценю культурное расчленение, благодаря которому в России кроме земледельцев существует еще и Пушкин, но, разумеется, я при этом желаю, чтобы весь русский народ мог наслаждаться поэзией Пушкина. Никакая справедливость не предписывает, чтобы все делали одно и то же; требуется только, чтобы каждый трудился не для одного себя, чтобы сделанное одним или немногими могло быть общим достоянием. И вот этой-то простейшей, ультраазбучной истины, без которой вся история есть бессмыслица, не хотят понять и принять ни наши крепостники по своему своекорыстию, ни наши народопоклонники по своему недомыслию. Первые, вообще не отрицая высшей культуры (по крайней мере некоторых ее сторон), желали бы оставить ее для себя, в свое исключительное пользование. Они хотят лишить народные массы даже первого элементарного средства всякой культуры — грамотности, под тем благовидным предлогом, что с грамотностью удобнее проникнут в народ всякие лжеучения, а также легче будет мужикам писать фальшивые векселя. Особенно в этом последнем пункте наши censores morum<> вполне компетентны, но вообще следует заметить, что они вместе с даром непогрешимого различения ложных и истинных учений, очевидно, получили также и дар особой логики. По этой логике следовало бы кроме грамотности отнять у народа и огонь в предупреждение пожаров, а также и воду, ибо колодцы могут ведь быть отравлены злонамеренными людьми.
Что касается наших народопоклонников (последней формации), то они, частью по недостаточности своего образования, частью по предвзятой фальшивой идее, видят какую-то аномалию и несправедливость в том, что есть необходимое условие для всякого усовершенствования человеческой жизни, — в разделении труда. Провести последовательно их дикую идею нет никакой возможности. Чтобы пахать землю, нужны орудия с металлическими частями, следовательно, нужно горное и металлургическое дело; и уже с древнейших времен этим делом должен был заниматься особый класс людей, помимо землепашцев. Вот уже, значит, из самой природы вещей возникает разделение труда и начало цивилизации. Но ведь не случайно же явились и дальнейшие осложнения культуры, дальнейшие ступени исторического процесса, и остановить его где нам угодно или вернуть назад, к произвольно выбранной нами стадии, — это все равно что «опростить» животное царство, вернувши его, например, к формам животных беспозвоночных, так как у высших животных более развиты дурные инстинкты и много лишних органов.
Всего лучше основная мысль наших упростителей выражена и заранее опровергнута в гениальном рассказе гр. Л. Н. Толстого «Три смерти». Здесь представлено, как умирают культурная барыня, мужик и дерево. Барыня умирает совсем плохо, мужик значительно лучше, и еще гораздо лучше дерево. Это происходит, очевидно, оттого, что жизнь мужика проще, чем жизнь барыни, а дерево живет еще проще, чем мужик. Но если из этого несомненного факта можно выводить какое-нибудь нравственно-практическое следствие, отождествляя простоту с высшим благом, то зачем же останавливаться на мужике, а не доходить до дерева, которое проще мужика, или еще лучше — до камня, который так прост, что даже совсем не умирает. А всего проще, конечно, чистое небытие, — недаром наши упростители стали в последнее время выказывать особую склонность к буддизму... Или, быть может, несправедливо прилагать логические требования к взглядам людей, отказавшихся от теоретической деятельности и ставших исключительно на нравственно-практическую почву? Но и на этой почве они во всяком случае могли бы принять во внимание тот несомненный факт, что историческим развитием культуры обусловливается и более полное и широкое применение той идеи социальной справедливости, за которую они стоят. Чтобы не ходить далеко, — чем обусловлено было упразднение крепостного права в России, как не тем, что с преобразованиями Петра Великого выделился у нас из народного целого особый культурный класс, получивший средства к усвоению общечеловеческого просвещения и его гуманных идей? Величайший акт социальной справедливости в нашей истории, конечно, не мог бы совершиться, если бы Радищев, Тургенев, Самарин, Милютин, Черкасский прониклись стремлением к «опрощению» и вместо своей литературной, общественной и политической деятельности предались паханию земли. Их собственные крестьяне при этом и были бы, может быть, отпущены на волю, но крепостное право вообще осталось бы в своей силе. Не было бы оно уничтожено и в том случае, если бы преобразовательной ломки Петра Великого вовсе не произошло, и названные деятели, подобно их предкам, должны были бы заседать в боярской думе или в холопьем приказе, отличаясь от своих крепостных только более богатыми кафтанами, а не европейским образованием.277
Итак, оба рассмотренные взгляда — крепостнический и народопоклоннический — при видимой своей противоположности, оказываются одинаково противохристианскими, противонародными и противоисторическими. Оба взгляда основаны на эгоизме: крепостники своекорыстно ищут сохранения и развития сословных привилегий; народопоклонники ищут своего личного удовлетворения в опрощении и мнимом уподоблении себя народной массе, которой от этого ни тепло, ни холодно. И те и другие — чужды и противны народу: одни прямо враждебно сталкиваются с его насущными интересами и мечтают закабалить его себе; другие отказываются отвечать на действительные потребности народа и отнимают у него ту пользу, которую могли бы принести, содействуя общему прогрессу страны в качестве людей культурных — ученых, учителей, техников, лекарей и даже хотя бы честных торговцев, промышленников и чиновников. Наконец, оба эти направления на свою беду одинаково, хотя с разных сторон, противоречат общему ходу истории, который клонится, во-первых, к наибольшему осложнению культурных форм и, следовательно, к полнейшему разделению культурного труда, — но вместе с тем, во-вторых, и к наибольшему уравнению всех в пользовании произведениями этого труда, к наиболее справедливому распределению общего достояния. Народопоклонники-упростители восстают против самого факта культурного осложнения, а крепостники — против справедливого распределения культурных благ. И те и другие должны видеть в истории человечества какую-то ошибку. Гораздо легче, конечно, признать ошибкою их собственные бредни. Эта ошибка отягчается грубым своекорыстием, с одной стороны, и слепою враждой к просвещению и науке — с другой. По счастью, как сказал один поэт -
У науки нрав не робкий,
Не заткнешь ее теченья
Ты своей дрянною пробкой...
В противоположность этим двум социальным ересям, из коих одна стремится разделить нацию на два враждебные стана, а другая — слить ее в бесформенную массу, мы утверждаем нравственно-органическую солидарность между простым народом и образованным классом и обязанность для этого последнего культурно служить народу, проводя в его жизнь не собственные измышления и своекорыстные затеи, а единственно твердые и единственно плодотворные начала общечеловеческого просвещения и вселенской правды. Двум идолам сословного обособления и простонародного безразличия, — идолам, которых поклонники или требуют чужой крови, как жрецы привилегированных богов Тира и Карфагена, или же сами лишают себя жизненной силы, подобно служителям простонародных божеств фригийских, — мы противопоставляем светлый и благотворный христианский идеал всеобщей солидарности и свободного развития всех живых сил человечества. Конечно, пока этот идеал остается только общим местом или пустою фразою, никто против него спорить не станет, им даже охотно прикрываются из приличия разные идолопоклонники. Но беда, если ту общую истину, которую все признают на словах, кто-нибудь захочет применить к делу или хотя бы только к суждению о действительных проявлениях лжи и зла в мире. Но именно такое развитие христианской идеи и составляет нашу задачу.
IV
Меня укоряли в последнее время за то, что я будто бы перешел из славянофильского лагеря в западнический, вступил в союз с либералами и т. п. Эти личные упреки дают мне только повод поставить теперь следующий вопрос, вовсе уже не личного свойства: где находится ныне тот славянофильский лагерь, в котором я мог и должен был остаться? кто его представители? что и где они проповедуют? какие научно-литературные и политические органы печати выражают и развивают «великую и плодотворную славянофильскую идею»? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сейчас же увидеть, что славянофильство в настоящее время не есть реальная величина; что никакой «наличности» оно не имеет и что славянофильская идея никем не представляется и не развивается, если только не считать ее развитием тех взглядов и тенденций, которые мы находим в нынешней «патриотической» печати. При всем различии своих тенденций, от крепостнической до народнической и от скрежещущего мракобесия до бесшабашного зубоскальства, органы этой печати держатся одного общего начала — стихийного и безыдейного национализма, который они принимают или выдают за истинный русский патриотизм; все они сходятся также и в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала — в антисемитизме. Вот тот действительный «лагерь», к которому принадлежат мои почтенные противники, но в котором я никогда не находился, а потому и не мог никуда из него перейти.
Вместо напрасных, хотя и лестных для меня сетований на этот мнимый выход из несуществующего славянофильского лагеря, следовало бы объяснить действительный факт его исчезновения; объяснить, почему славянофильская идея сошла со сцены, ничего не сделавши, почему она не возвысила, не одухотворила и не осмыслила наш стихийный патриотизм чрез сознательное выражение в нем лучших качеств русского национального характера, его всеобъемлющей широты и миролюбия, а, напротив того, с такою легкостью сама уступила место рабскому воспроизведению ходячего во всех странах и ничуть не русского шовинизма и политического кулачества, так что лишь благодаря мудрой и истинно русской (т. е. миролюбивой) внешней политике нашего правительства Россия избавлена до сих пор от недостойных христианского народа и нисколько не оригинальных воинственных предприятий?
Конечно, и в старом славянофильстве был зачаток нынешнего национального кулачества, но были ведь там и другие элементы, христианские, т. е. истинно гуманные и либеральные. Куда же они теперь девались? Уж не перенес ли я их с собою в «западнический лагерь», где, впрочем, они и без меня присутствовали? Во всяком случае, если славянофильство было когда-нибудь живым целым, то ныне этого целого более не существует; оно распалось на составные элементы, из коих одни по естественному сродству вошли в соединение с так называемым «западническим лагерем», а другие столь же естественно были притянуты и поглощены крепостничеством, антисемитизмом, народничеством и т. д. Но если славянофильство подпало такому химическому процессу, то ясно, что оно перестало быть органическим явлением; если оно подверглось разложению, то, значит, оно умерло, и этот несомненный факт нисколько не изменится оттого, что кому-нибудь угодно разложение трупа называть развитием.
В прошлом году была сделана замечательная, хотя совершенно не замеченная попытка воскресить этот труп. Я разумею журнал «Благовест», несколько месяцев тому назад издававшийся (а может быть, и доселе издаваемый) маленькою фракцией петербургского славянского общества с г. Афанасием Васильевым во главе. Этот последний в нескольких руководящих статьях дал превосходное изложение подлинного славянофильства. Но изложить еще не значит оживить. Вместо невозможного воскрешения вышла весьма поучительная аутопсия. В своем похвальном старании воспроизвести принятое им учение со всею полнотою г-н Васильев ярко подчеркнул то внутреннее противоречие (между христианским универсализмом и языческим особнячеством и враждою к чужому), которое было для славянофильства смертельным недугом. Достаточно сказать, что в качестве эпиграфов этой profession de foi рядом с текстами апостола Павла о христианской любви стоят слова генерала Скобелева о том, что всех немцев нужно истребить. Никакой противник славянофильства не мог бы более удачно выставить его слабую сторону, и всякому при виде такого сопоставления становится ясно, что это двуликое (если и не двуличное) учение было неспособно к дальнейшему существованию и развитию. Это подтверждается и судьбою нового славянофильского издания. Благовест мнимого воскресения оказался на деле похоронным звоном, притом столь запоздалым и несильным, что лишь немногие его услышали и пожелали покойнику царствия небесного.
Общий ход разложения славянофильской идеи был мною показан в другом месте; теперь я хочу остановиться особенно на характерном для славянофильства — но и не для него одного — превращении высоких и всеобъемлющих христианских идеалов в грубые и ограниченные идолы нашего современного язычества.
Почтенный оратор, которого речь была ближайшим поводом этих очерков, называл Россию новым Израилем, народом святым и богоносным. Это национальное мессианство составляло, как известно, основную мысль старого славянофильства; также известно и то, что эта мысль в той или другой форме являлась у многих народов; преобладающий религиозно-мистический характер она принимала в особенности у поляков (товянщизна) и у некоторых французских мечтателей тридцатых и сороковых годов (Мишель Вентра и т. п.). В каком отношении находится подобное национальное мессианство к истинной христианской идее? Мы не скажем, чтобы между ними было принципиальное противоречие. Истинный христианский идеал может принять эту национально-мессианскую форму, но он становится тогда весьма удобопревратным (по выражению духовных писателей), т. е. легко может перейти в соответствующий идол антихристианского национализма, как это действительно и случилось.
Мы называем идеалом то, что само по себе хорошо, что обладает внутренним безусловным достоинством и одинаково нужно для всех. Так, напр., человечество, устроенное по началам справедливости и всеобщей солидарности, человечество, живущее «по-Божьи», есть идеал, ибо справедливость и нравственная солидарность сами по себе хороши, представляют нечто безусловно достойное и желанное для всех. В этом качестве такой идеал и должен утверждаться как цель исторического процесса и как руководящий принцип нашей деятельности, как норма, по которой нам следует исправлять действительные общественные неправды. Верить в такой идеал значит, во-первых, признавать, что он не есть пустая фантазия, а имеет объективные основания в самой природе вещей, будем ли мы смотреть на эту природу со стороны общего предопределения и плана в уме и воле абсолютного всеединого существа, или же со стороны коренных свойств и законов природного и человеческого мира; во-вторых, верить в идеал значит признавать возможность его окончательного осуществления, принимать его как задачу разрешимую и разрешаемую в историческом процессе; и, наконец, в-третьих, настоящая вера в идеал требует, чтобы мы самих себя не устраняли от этой задачи, а смотрели на нее как и на наше собственное дело, требующее от нас трудов, усилий и подвигов. При такой деятельной вере, хотя бы сам идеал и оставался пока не осуществленным, он во всяком случае нравственно полезен для тех людей и обществ, которые ставят его себе целью и действуют в его направлении. Если, веря таким образом в истинный всеобщий идеал, мы вместе с тем уверены, что наш народ более прочих способен проникнуться этою высшею правдою и может больше других сделать для ее осуществления, т. е. для блага всех, что он в этом смысле есть народ избранный, то, конечно, в таком национальном мессианстве нет еще ничего ложного и вредного. Лишь бы только мы старались, чтобы эта наша вера в народ оправдывалась на деле, чтобы он действительно показывал себя более соответствующим тому идеалу, с которым связано его предполагаемое высшее призвание. При этом и вопрос национального соперничества легко и мирно разрешается, ибо если каждый из нескольких народов считает себя богоизбранным или преимущественно христианским, то, очевидно, прав из них будет тот, чья национальная жизнь и политика окажутся более верными духу Христову. Если не забывать самого содержания христианского идеала, в котором нет места для эгоизма и несправедливости, то и при крайнем патриотизме можно побуждать свой народ лишь к первенству в делах правды и любви, а такое первенство поистине ни для кого не обидно.
Но именно нравственно-религиозное содержание мессианской идеи сейчас же и забывается, и, вместо того чтобы быть действительным источником обязанностей, эта идея становится номинальным основанием исключительных привилегий в пользу одного народа и в ущерб всем прочим. Из утверждения, что наш народ есть истинно христианский, не выводят того необходимого, казалось бы, следствия, что он во всех делах и отношениях своих, внешних и внутренних, должен действовать по-христиански и никого не обижать, а выводят наоборот, что ему все позволено для поддержания и защиты своих собственных интересов. Этот вывод обусловливается следующим обманчивым рассуждением: наш народ, как избранный, как христианский по преимуществу, важнее и ценнее всех других; заботясь о его сохранении и преуспеянии, мы служим тем высшим началам, которые он собою представляет, и если его интересы сталкиваются с интересами других народов, то мы имеем право ставить эти последние ни во что.
Такое рассуждение ложно в самом основании, ибо если наш народ действительно представитель истинно христианских начал, то его первый интерес есть справедливость, и, следовательно, он не может ради своих интересов попирать чужие. Но последователи национального лжемессианства забывают, что христианская идея имеет нравственное содержание, и преспокойно принимают для своей деятельности пресловутое правило, приписанное почему-то иезуитам, но на деле свойственное мошенникам всех орденов и званий, — именно правило, что добрая цель оправдывает дурные средства. Нужно ли, однако, доказывать, что в действиях нравственного порядка невозможно провести разделение между целями и средствами и что добрая цель тем и отличается от недоброй, что исключает намеренно дурные способы достижения? Упомянутое правило сводится, в сущности, к словесному обману: добрая цель разумеется здесь не в смысле нравственного добра, а лишь в смысле собственной выгоды, и тогда уже само собою понятно, что для субъекта (единичного или собирательного), ставящего свою выгоду выше всего, всякие средства одинаково хороши. Но как же совместить такую общемошенническую точку зрения с достоинством народа истинно христианского? Когда за избранным народом признается право на неправду, когда во имя его предполагаемого нравственного преимущества ему внушают действительно безнравственную политику, — ясно, что от христианского идеала с его высшими требованиями осталось здесь только одно название, а на самом деле воцарился идол антихристианского национализма.
V
Народность сама по себе есть лишь ограниченная часть человечества, могущая стоять в том или другом отношении к абсолютному идеалу, но ни в каком случае не тождественная с ним; поэтому когда такой частный факт берется как он есть и возводится в высший принцип, когда отдельному народу приписывается исключительная и неотъемлемая привилегия или монополия на абсолютную истину, тогда он из преимущественного носителя и служителя всечеловеческого идеала превращается в безусловный довлеющий себе предмет нашего служения, т. е. в идола, поклонение которому основано на лжи и ведет к нравственному, а затем и материальному крушению. Ложь здесь состоит в том, что факт сложный и относительный, смешанного качества, с положительными и отрицательными сторонами, с остатками и зародышами всевозможных элементов, добрых и злых, — выдается за нечто безусловно достойное и совершенное; а пагубные последствия этой лжи заключаются в том, что если данный факт (известная народность) стал безусловным предметом поклонения в своем наличном виде и различие дурного и хорошего в нем утратилось, то тем самым теряется основание и побуждение его улучшать, возвышать его до истинного идеала, противодействовать в нем всему злому; а так как в нашей земной действительности зло вообще сильнее добра, то дурные элементы в народе, возвеличенные вместе с хорошими, скоро берут над ними перевес, и фальшиво обожествленный идол становится все более и более обманчивым, все менее и менее достойным нашего поклонения и служения.
Защитникам идолопоклонства очень на руку двусмысленность слова «служение». С одной стороны, «служить» значит безусловно подчиняться и предаваться известному предмету, как совершенному благу и высшей цели; в этом смысле говорится о служении Богу; подобным же образом мы служим идеалам и принципам, которые в своем роде, так или иначе, выражают безусловное совершенство, — служим, например, истине, справедливости, законности и т. п. Но, с другой стороны, когда дело идет о предметах ограниченных и несовершенных, имеющих лишь относительное достоинство, то слово «служить» никак не должно выражать безусловного и всецелого подчинения и преклонения, а обозначает лишь деятельность на пользу данного предмета, для доставления ему тех благ, которых он сам в себе не имеет. Это есть деятельность, во-первых, сохраняющая бытие данного предмета, а во-вторых, улучшающая, совершенствующая его достоинство и, следовательно, разрушающая его дурные стороны; именно таким образом мы служим тем учреждениям и тем социальным группам, к которым принадлежим, — служим своей семье, своей профессии, своему народу и отечеству. Очевидно, что это второго рода служение может настоящим образом совершаться лишь под условием первого. Я не могу служить как следует своему отечеству, если я при этом не служу истине и справедливости, если я не подчиняю безусловно и себя, и свой народ высшему нравственному закону. Служение этим идеальным предметам дает определенное мерило и для оценки патриотического служения. С другой стороны, исполнять на деле требования высшего идеального служения (в первом смысле) мы можем не иначе, как только применяя и осуществляя их в той конкретной общественной среде, в которую мы поставлены и которую мы чрез эту свою деятельность улучшаем и совершенствуем (т. е. служим ей во втором смысле). Таким образом, эти два рода «служения» именно в силу своего определенного различия внутренно связаны между собою, и этою связью обусловливается как истинный патриотизм, так и действительный прогресс человечества.
Говорят: нельзя на деле любить человечество или служить ему — это слишком отвлеченно и неопределенно; можно действительно любить только свой народ. Конечно, человечество не может быть ощутительным предметом любви, но это и не требуется: довольно если мы свой народ (или хотя бы ближайшую социальную среду) любим по-человечески, желаем ему тех истинных благ, которые не суживают, а расширяют его собственную жизнь, поднимают его нравственный уровень и образуют его положительную духовную связь со всем Божьим миром. При таком истинном патриотизме служение своему народу, конечно, есть вместе с тем и служение человечеству, хотя бы об этом последнем мы и не имели никакого ясного представления. Но когда под тем предлогом, что человечество есть лишь отвлеченное понятие, мы начинаем поднимать в своем народе его зоологическую сторону, возбуждать его зверские инстинкты, укреплять в нем звериный образ, то кого же и что мы тут любим, кому и чему этим служим?
Грех славянофильства не в том, что оно приписало России высшее призвание, а в том, что оно недостаточно настаивало на нравственных условиях такого призвания. Пускай бы эти патриоты еще более возвеличивали свою народность, лишь бы они не забывали, что величие обязывает; пускай бы они еще решительнее провозглашали русский народ собирательным Мессией, лишь бы только они помнили, что Мессия должен и действовать как Мессия, а не как Варавва. Но именно на деле и оказалось, что глубочайшею основою славянофильства была не христианская идея, а только зоологический патриотизм, освобождающий нацию от служений высшему идеалу и делающий из самой нации предмет идолослужения.
Провозгласили себя народом святым, богоизбранным и богоносным, а затем во имя всего этого стали проповедовать (к счастью, не вполне успешно) такую политику, которая не только святым и богоносцам, но и самым обыкновенным смертным никакой чести не делает.
VI
Превращению мессианского идеала старых славянофилов в того зооморфического идола, которому служат нынешние националисты, соответствовала и способствовала замена религиозного содержания вероисповедного формою. Допустим (как оно есть и на самом деле), что православие по существу своему есть совершенно истинная, вполне адекватная форма христианства. Но и самое лучшее внешнее выражение высшей духовной жизни может быть — в умах и чувствах людей — отделено от самой этой жизни, и в таком случае оно или остается пустою формой, или — что еще хуже — наполняется другим содержанием, далеко не соответствующим или далее противоположным первоначальному. Старые славянофилы в свою проповедь «православия» не влагали еще, конечно, содержания прямо антихристианского. Но самый тот факт, что они в религиозном деле настаивали преимущественно на вероисповедных отличиях, на том, что нас отделяет от других христиан, а не на том, что нас с ними связывает и соединяет, — эта замена христианского дела вероисповедным спором ясно показывала, что в их взглядах и чувствах данная историческая форма истинной религии перестала быть нераздельным органическим выражением ее духовного содержания, а получила самостоятельное и преобладающее значение. На словах эти люди не отделяли православия от духа Христова; они утверждали, что православие отличается началом любви, духовной свободы и т. д., но они ничего не делали для действительного осуществления этих истинно христианских начал любви и духовной свободы и тем ясно показывали, что для них главное дело не в этом, а только в том, чтобы во что бы то ни стало отстоять преимущество своего вероисповедного элемента перед чужими. Преувеличенное значение внешней формы в их проповеди несомненно обозначало убыль собственно религиозного духовного интереса, и эта убыль скоро сказалась у нас самым печальным образом.
Странное дело! Казалось бы, на первый взгляд, что такие выражения, как «христианство», «дух Христов» и т. п., гораздо менее определенны, чем такие, как «православие», «единая спасающая церковь» и т. п., — а между тем на практике оказывается как раз наоборот. Во всяком вопросе личной и общественной нравственности между добросовестными людьми никогда не может быть спора о том, что согласно и что противно христианскому духу; тогда как с точки зрения той или другой исторической вероисповедной формы — если ей придавать самостоятельное значение — во всяком таком случае решение оказывается спорным. Возьмем, например, вопрос о том, следует или нет пытать и сжигать еретиков? По духу Христову ясно, что не следует; ну а с точки зрения единой спасающей церкви приходится отвечать: и да и нет. Или общее: нужно ли и позволительно ли стеснять религиозные убеждения человека, подавлять их внешнею властью? Опять-таки, нет сомнения, что по духу Христову всякое религиозное насилие и преследование невозможно и непозволительно, тогда как на формальной почве любого вероисповедного учреждения нельзя получить и на этот существенный вопрос никакого определенного ответа. Славянофилы утверждали, например, что сущность православия состоит в любви и свободе совести, чем прямо исключалась возможность религиозных стеснений и преследований. Но это оказалось их частным и весьма непрочным мнением. Ныне люди, им единомышленные, но более их компетентные, совершенно иначе высказываются об этом предмете. Позволим себе привести следующую страницу из недавнего и, по-видимому, малозамеченного произведения одного уважаемого публициста, говорившего о православии и во имя православия.
«Поставьте принципом, в истине которого потом убедитесь, что православную церковь трудно понять с точки зрения иного исповедания и тем более разнообразных сект. Напротив, только с точки зрения православной церкви, как с вершины, видны все кривые пути, на которые уклонились католичество и протестантство со всеми происшедшими от последнего бесчисленными сектами. Тогда только вы поймете неизреченную милость Провидения Божия к нашему народу, призвавшего его в свою истинную Церковь и удостоившего его послужить ее сохранению и распространению; поймете и то, почему мы обладаем такою необъятною территориею и отчего народ наш занял такое высокое положение между другими народами и приобрел такое мировое значение. Вы поймете, что Бог с ним и Бог его возвеличил.
«Но в этом случае наши образованные люди пожалеют только себя, так как сами обратятся на истинный путь. Но они должны пожалеть и народ, разлагаемый, как мы видим, бесчисленными сектами, и притом в последнее время развращаемый вредными мыслями и дурными примерами тех же ложнообразованных людей. Для прекращения этого зла нужно нашему просвещенному обществу прежде всего отрешиться от двух ложных понятий, о свободе совести и о всепрощающей любви (курсив в подлиннике). Нельзя признать право на распространение всех возможных сект и заблуждений по принципу свободы совести в том смысле, как у нас затвердили его с чужого голоса, справедливо признавая, что совесть неприкосновенна (курсив подлинника), но не понимая того, что там, где они хотят видеть и признать свободу совести, ее вовсе нет (курсив подлинника). Истинное учение о свободе совести принадлежит святому апостолу Павлу (1 Коринф. X, 23-30) и от него усвоено православною церковию. Вот в чем оно состоит: совесть как чувство и сознание состояний благоприятных и тягостных, испытываемых человеком по совершении добра или зла, есть естественный нравственный закон, сохранившийся и после падения человека в его природе. Это сознание и чувство просветляется познанием закона богооткровенного, благодатию Божиею и нравственным трудом. Чем яснее и чище становится совесть, тем она чувствительнее к впечатлениям добра и зла, тем строже различает и тем решительнее принимает добро и отвергает зло. Когда человек нравственным трудом и очищением сердца воплощает в себе закон Христов и когда совесть и ее веления становятся тождественными с законом Христовым (курсив подлинника), тогда человек получает право и свободу (курсив подлинника) без опасения нарушить заповедь Божию, действовать по своей совести; тогда он может дозволять себе применение закона к частным случаям жизни и определение взаимных отношений христианских обязанностей не по букве, а по духу закона; тогда он действует по свободе совести (курсив подлинника). Итак, свобода совести есть высшее совершенство христианина, которого нельзя признать за всяким человеком без разбора. У того, кто решит без страха ответственности, совесть тупа (курсив подлинника), или, как говорит апостол Павел, сожжена (курсив подлинника) (1 Тим. 4:2); кто фанатически преследует разномыслящего с ним человека, у того совесть искажена (курсив подлинника); кто позволяет себе извороты и предлоги для уклонения от исполнения обязанности или для корыстных целей ложно толкует закон, у того совесть фальшива (курсив подлинника), или, по церковному (?) выражению, лукава (курсив подлинника), и т. п. Как же можно уступить принцип свободы совести или дать право действовать (?) по своей (курсив подлинника) совести и изуверу, и фанатику, и разбойнику? Их совесть, напротив, требует пробуждения, оживления, освобождения (курсив подлинника) от подавляющих ее ложных мыслей, пороков и страстей. Итак, признавайте за всяким человеком, как существом свободным, свободу мысли (но без права публичного выражения всякой ложной мысли), свободу выбора, свободу дела, свободу жить или умереть (?), свободу спастись или погибнуть, но никак не свободу совести (курсив подлинника).
Подобные же ложные мысли господствуют в нашем образованном обществе и относительно христианской любви. Основываясь будто бы на Евангелии, проповедуют любовь безграничную, всепрощающую, всетерпящую». Досточтимый автор находит, напротив, что истинная любовь предписывает «меры исправления и ограничения» не только против порочных, но и против «заблуждающих».
«Еще над умами наших образованных людей, — продолжает он далее, — тяготеет ложное мнение о мире христианском, об осторожности относительно иноверцев и сектантов из опасения раздражить умы и страсти и произвести в обществе смуты и беспорядки». Подобное опасение он считает неуместным особенно для лиц начальствующих: «Когда ты не частный человек и обязан защищать в своем лице права своего общественного положения и власти, тогда действуй как христианин с свободною совестью, умеющий примирить обязанность любви с правами власти». И далее поясняется: «Согласно с истинным учением о свободе совести и христианской любви, и начальники христианские не должны смотреть сложа руки на распространение у нас сект, а мерами, дозволенными законом, по слову апостола Павла, «вразумлять бесчинных» (1 Сол. V, 14), «заграждать уста пустословов» (Тит. VI, 10,11), «удалять смущающих церковь Божию» (Гал. I, 7).278
VII
Я вовсе не имею в виду оспаривать изложенное (в качестве истинно православного) учение о свободе совести. Многое в нем совершенно бесспорно. Всякий согласится с таким, например, положением: «Кто фанатически преследует разномыслящего с ним человека, у того совесть искажена». Нельзя спорить также и против того положения, что совершенный христианин, воплощающий в себе закон Христов, имеет полноту духовной свободы, — той свободы, которою пользовались, например, мученики. Но вопрос, который нас интересует и который также имелся в виду и досточтимым автором приведенного рассуждения, касался не тех совершенных христиан, которые сами претерпевали гонения за веру от язычников, а, напротив, тех несовершенных христиан того или другого господствующего вероисповедания (скажем, например, женевских кальвинистов или испанских католиков XVI и XVII веков), которые не подвергались, а подвергали религиозным преследованиям иноверцев и предполагаемых еретиков; спрашивается: позволительны ли с истинно христианской точки зрения такие преследования и вообще какие бы то ни было внешние принудительные меры стеснения и ограничения против исповедания религиозных убеждений, не совпадающих с верою большинства? Дело идет вовсе не о внутренних, более или менее совершенных, состояниях христианина, подведомственных одному Богу, а только о законном и публичном, юридическом и политическом применении христианского начала веротерпимости или религиозной свободы к различным сектантам и иноверцам. Вопрос о свободе совести в этом смысле (а только в этом смысле он есть вопрос) имеет лишь кажущееся, словесное, а не реальное отношение к тому религиозно-психологическому и религиозно-этическому учению о совести и ее внутренней свободе и неволе, которое — по справедливому, но не совсем точному выражению нашего автора — принадлежит святому апостолу Павлу и от него усвоено православною церковью.279
Конечно, «свобода совести» есть выражение лишь условно принятое, а в сущности совершенно непригодное для нашего вопроса, который относится вовсе не к совести (она, как заметил и автор, неприкосновенна), а к праву каждого лица и каждой религиозной общины свободно исповедовать и проповедовать свои верования и убеждения. Но именно это право наш автор и отвергает самым решительным образом. Признавайте, говорит он, за всяким человеком, как существом свободным, свободу мысли, но без публичного права выражения всякой ложной мысли. Если бы существовали общепризнанные судьи, непреложно решающие, какая мысль ложная и какая истинная, тогда, конечно, не было бы надобности допускать обнародование заведомой лжи; но именно отсутствие таких судей и весьма частые и пагубные ошибки предполагаемых авторитетов заставляют, в интересах духовного преуспеяния человечества, требовать свободы выражения всяких мыслей. Что же касается допускаемой нашим автором свободы для мысли невыраженной, то такая свобода неотъемлемо принадлежит всякому мыслящему существу по природе вещей и никем не может быть ограничена, ибо чужая душа — потемки, и никакое начальство, ни светское, ни духовное, не имеет физической возможности простирать свою власть на сокровенные помыслы людей. Зачем же говорить о предоставлении того, что не может быть отнято, и о разрешении того, чего нельзя запретить?
Основания, по которым наш автор отвергает свободу публичного280 выражения мыслей, заключают в себе, кажется, некоторое недоразумение. «Как же можно, — говорит он, — уступить принцип свободы совести или дать право действовать по своей совести и изуверу, и фанатику, и разбойнику?» Право действия разбойников ограничено уголовным судом и его последствиями, и едва ли кто серьезно станет оспаривать необходимость такого ограничения. Дело вовсе не в этом. Между правом публичного исповедания своих религиозных убеждений и правом разбойничьих действий есть некоторая существенная разница, тем более, что разбойники действуют обыкновенно не по совести, а вопреки ей. С другой стороны, наш автор предоставляет полную свободу совести и действий лицам начальствующим и вменяет им такую свободу даже в обязанность: «Действуй, — обращается он к начальнику, — как христианин с свободною совестью». Конечно, среди лиц начальствующих ни в каком случае не может быть разбойников, но фанатики между ними иногда могут попадаться, а наш автор и к ним так же беспощаден, как и к разбойникам: и у них, по его мнению, необходимо отнять свободу совести и действий, ибо, как он справедливо замечает, «кто фанатически преследует разномыслящего с ним человека, у того совесть искажена». Как же тут быть? Один и тот же субъект, как человек с искаженною от фанатизма совестью, не может быть полноправным, и он же, в качестве начальника, не только полноправен, но имеет даже обязанность действовать как христианин с свободною совестью. Это противоречие может быть разрешено только требованием, чтобы все начальники были совершенные христиане, — требование явно утопическое.
Мы остановились на этом рассуждении с целью отметить интересный факт: со стороны лиц вполне компетентных и притом примыкающих к славянофильству религиозная свобода не только не признается за отличительный признак православия (каким считали ее старые славянофилы), а даже прямо отвергается как пагубное заблуждение, от которого прежде всего должно отрешиться наше общество. В чем же, однако, состоит тогда тот кривой путь католичества, который виден нашему автору с его вершины? Мы прежде думали, что эта кривда есть именно религиозная нетерпимость, стеснения и преследования иноверцев и разномыслящих. Очевидно теперь, что мы ошибались. Ошибался и поэт Ф. И. Тютчев, когда обращался с таким громоносным обличением к папству в лице Пия IX:
Не от меча погибнет он земного,
Земным мечом владевший столько лет, -
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред».
1891
Примечания:
272 Употребляю этот термин не в смысле брани, а как более определенный и яркий, нежели «ретрограды» и т. п. Известно, впрочем, что один и тот же термин может иметь почетное или же оскорбительное значение, смотря по времени и обстоятельствам, Так, например, название «тайные советники» означало прежде людей, которые по своему высокому чину в гражданской иерархии могут совещаться о важных государственных делах, остающихся тайною для прочих смертных; а ныне, если верить некоторым газетам, это название должно относиться к заговорщикам, которые составляют между собою тайный совет на погибель государства. Таким образом, почетное наименование превращается в самое ужасное. Но и наоборот, весьма скверные клички могут входить в почет: так, напр., крепостниками еще недавно назывались люди, по своекорыстным побуждениям мечтающие о восстановлении крепостного права, а теперь это означает, по-видимому, патриотов, радеющих о крепости государственного и земского строения.
273 Некоторые из них, более стыдливые, требуют только замены всех существующих народных школ одними церковно-приходскими. Такое требование может быть совершенно искренним и благонамеренным, но к чему оно сводится на деле — можно заключать из того, что писатели, самым ревностным образом защищающие принцип церковно-приходского обучения, вынуждены сознаться в его практической неосуществимости при данных условиях. Весьма решительно в этом смысле высказался ученик известного С. А. Рачинского, г. Горбов, в статье, напечатанной в «Православном обозрении» около трех лет тому назад («Неясные стороны русской народной школы»).
274 Проповедь «опрощения" связывается обыкновенно с именем графа Л. Н. Толстого; но, помимо правдивого изображения и обличения нашей общественной и семейной жизни, воззрения знаменитого писателя за последние 15 лет его деятельности представляют, так сказать, лишь «феноменологию» его собственного духа и в этом смысле имеют, конечно, значительный интерес, но не подлежат опровержениям. Поэтому я не желал бы, чтобы последующие замечания были приняты за полемику против славного романиста, который не может отвечать за то, что другие выводят из субъективных излияний его артистической натуры.
275 В одной газете меня недавно упрекали за высокомерное будто бы отношение к простому народу вообще и к его религиозным верованиям в особенности. Предлогом для такого неожиданного упрека послужило мое рассуждение о фальшивом (по существу) отношении некоторых славянофилов к предметам народного культа, именно к чудотворным иконам. Я утверждал (и утверждаю), что в самом народе иконопочитание имеет вовсе не те субъективные и фантастические мотивы, которые выставлялись славянофилами, а другие, объективные и положительно-религиозные, существовавшие и даже формулированные церковью раньше появления на свет русского народа. Газета не догадалась, что эти самые объективно-религиозные мотивы народного культа принимаю и я (разумеется, в более сознательной и отчетливой форме и не ручаясь за каждый частный случай), а следовательно, и в этом пункте я оказываюсь нравственно солидарным с народом, поклоняясь не ему, а тому, чему он поклоняется. Мое осуждение славянофильского народопочитания газета приняла за презрительное отношение к народному иконопочитанию. Упоминаю об этой забавной ошибке, потому что она мне кажется довольно характеристичной. Очевидно, эти господа не могут даже допустить возможности собственно религиозного убеждения, независимого от практикуемого ими псевдопатриотического приспособления к народу, которое показывает только их полное от него отчуждение.
276 Опровержение противоположного взгляда см. в предыдущих главах «Национального вопроса в России»: «Россия и Европа» (выпуск I), «Мнимая борьба с Западом» (выпуск II) и «Немецкий подлинник и русский список» (там же).
277 Один московский публицист, отрицая, по-видимому, всякое влияние европейского просвещения и идей общественной нравственности в деле освобождения крестьян, утверждал недавно, что это дело совершилось исключительно только вследствие существующей у нас формы правления. Мы менее всего склонны умалять огромную историческую заслугу нашего просвещенного и гуманного правительства — напротив, мы ценим его здесь в двойной мере — не за то только, что оно решило освободить крестьян, но и за то еще, что оно в течение полутора веков перед тем создавало и воспитывало тот образованный класс, в котором выяснилась нравственная необходимость освободительного акта и выработались деятели, послужившие верховной власти в его исполнении. Но при этом я решительно отказываюсь понять, какое отношение к данному предмету имеет собственно форма правления, отвлеченно взятая. Ведь и установление крепостного права совершилось при той же самой государственной форме, как и его упразднение; между этими двумя актами не произошло никакой перемены в основах нашего политического строя, а совершалась перемена другого рода, именно постепенное усвоение правительством и обществом тех идей гуманного просвещения, благодаря которым и в других странах, в Европе и в Америке, упразднено крепостное право и рабство при самых различных формах правления. Впрочем, упомянутый публицист, очевидно, понимающий абсолютный характер монархического принципа не в том смысле, какой заключается в моей теократической формуле, совершенно напрасно ссылается на сию последнюю.
278 Здесь, нам кажется, почтенный автор не вполне основательно ссылается на св. Павла. Так как в эпоху апостола языков христианская Церковь являлась сама лишь гонимою сектою, то все приведенные выражения могли относиться только к внутренней духовной дисциплине христианских общин, а никак не к внешним принудительным мерам против сектантов.
279 Я говорю: не совсем точному — потому что апостол Павел, по крайней мере с точки зрения православной церкви, не имел никакого особенного, лично ему принадлежащего учения, а возвещал вечные истины по вдохновению свыше.
280 О частных выражениях мысли, например, в интимном разговоре мужа с женой, можно сказать то же, что и о мыслях невыраженных: их свобода неотъемлема и не подлежит никакому вопросу.