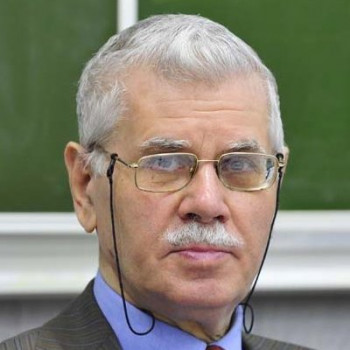Онтология и дискурс: как думается, именно в этих двух планах, проблемных полях, пространствах мысли, должно будет в первую очередь развертываться будущее осмысление философского дела Владимира Вениаминовича Бибихина. Онтология, Philosophia prima, Metaphysica generalis - эти имена звучат сегодня архаикой. В этом свои причины, своя оправданность; однако неотменимым остается и то, что эти формы мысли - классика. И это значит, что они всегда сохраняют право и возможность - а, может быть, и необходимость? - своего присутствия в любом времени: в новом и непредсказуемом облике.
Мысль Бибихина - отчетливо онтологической складки. Читая его, мы очень скоро не можем не заметить один сквозной философский мотив. Можно обозначить его, хотя бы для начала, условно, как мотив глубины: измерения глубины, присущего реальности и своим присутствием вносящего в вещи и явления различение: различение (различие, расщепление) между поверхностной картиной, первым впечатлением или прочтением - и некой иной картиной, иным прочтением, более существенным, более истинным. Различение усматривается философом по-разному: часто - вскрытием пластов языка, старинной методой этимологизации; иногда - путем расширения контекста, напоминанием дополнительных концептуальных связей, исторических обстоятельств; а иногда и просто пристальным взглядом на определенные детали предмета. Весьма разный характер носит, на первый взгляд, и само различение. Однако неустанная, даже, если угодно, монотонная демонстрация его присутствия во всем и всюду скоро заставляет задуматься.
Первым делом, мы понимаем, что за всеми примерами, проявлениями различения стоит нечто общее, какое-то универсальное свойство реальности. Этого мало, однако. Речь философа отнюдь не звучит речью школьного учителя, который «показав на примерах, подводит к общему закону». Никакого общего закона он нам не хочет открыть, и то, что открывается в различении, не будет сведено ни в какую формулу, не поддастся никакому описанию. И постепенно мы понимаем больше: смысл того, к чему нас подводят эти настойчивые усмотрения различения, не где-то за различением, а в нем самом. Не за ним стоит некое универсальное свойство, а оно само своим присутствием составляет глубинную черту реальности, ее фундаментальный предикат. А то неописуемое, о чем оно говорит, не есть уже ни свойство, ни предикат, а скорее необходимая, однако неявная предпосылка всего. И это, по определению, значит - понимаем мы еще дальше - что различение, демонстрируемое философом, - онтологическое различение, та самая ontologische Differenz: различие между сущим и бытием. Нарочито простая, чуждающаяся «терминов», речь философа, с самого начала и постоянно, была речью, ориентированной к бытию.
Простота речи отнюдь не означает пренебрежения к философскому профессионализму, ухода в маргинальный - или эссеистический, или иной около¬философский - дискурс. Мысль Бибихина, во-первых, всегда и очень плотно - в атмосфере культуры, в историко-культурном ландшафте; во-вторых, она и по-своему методологична, она формирует собственные орудия. Из главных орудий для философа - центральные, ключевые концепты, вокруг которых собирается и которыми организуется (никогда не жестко, всегда исподволь, и все же определенно организуется) его философствование. Эти концепты - следующая форма, в которой конституируется онтология; они, в частности, концентрированно, сгущенно содержат и воплощают в себе онтологическое различение.
Первым из этих собирающих и фокусирующих концептов стал - Мир: ему посвящен был самый первый из серии лекционных курсов Бибихина: серии, которая, несомненно, представляет собой одно из главнейших философских событий своего времени, 90-х годов.
В тематизации Мира, которая развернута в курсе 1989 г., одно из самых онтологически нагруженных понятий - «целый мир». Это - апофатическое понятие; «целый мир», по Бибихину, - самое необходимое («Нигде, как в целом мире, не может иметь места существо человека» [ 1 ] ), и однако всегда неприступное, не данное, отсутствующее. В этой апофатической трактовке - семена будущего сближения с Витгенштейном. Сближение это на первый взгляд, странно, парадоксально: философ онтологической ориентации, философ бытия, с вызывающе афористичным и антисистематичным, разговорным, доверительно-устным, почти розановским стилем - и «логический позитивист», фанатически озабоченный точностью любого высказывания, доводимый этой заботой до косноязычного и обрывочного гипер-лаконизма, до «экстаза отрицаний», как выражается о его дискурсе Владимир Вениаминович. Но на поверку, эта противоположность - очень внешнего свойства; а за ней - сложное плетение глубинных нитей, нитей общности, корреляции, творческих совпадений и перекличек. Даже в их жизненном поведении и творческом темпераменте можно обнаружить важные сходства, затаенный огонь, питавший творчество их и жизнь, сообщавший им подспудный пафос. «Бибихин и Витгенштейн» - объемная тема, и мы не входим в нее сейчас, но все же зафиксируем главное: необходимость деконструкции исходной внешней полярности. В действительности, вызывающе необязательный и афористичный дискурс Бибихина таит в себе ту же «витгенштейновскую» истовую заботу о внутренней точности, выверенности, достоверности каждого слова и высказывания (другой вопрос - каковы критерии, которыми у обоих руководится эта забота!); а у «позитивиста» Витгенштейна давно и основательно выявлен исследователями глубокий, своеобразный онтологизм. Один из его основных аспектов как раз связан с Миром: у Витгенштейна это тоже важнейший концепт, который в Первом разделе «Трактата» характеризуется так: «Факты в логическом пространстве суть Мир» (1.13). Однако логическое пространство не есть ни эмпирическая, ни интеллигибельная данность, если мы учтем, как максималистски-ответственно и нагруженно, в каком сильном смысле Витгенштейн понимает логическую форму, которую он утверждает имманентной своему Миру: в «логическую картину» (3) он допускает лишь sinnvolle Satz, во всей полноте осмысленное - и в этой полноте недоступное! - полагание. Итак, Мир Витгенштейна - апофатический концепт; и мы понимаем, как близок был русскому философу «Мир, подаренный способом Витгенштейна» (его выражение).
Далее, столь же изначально для мысли философа - Присутствие. Оно уже есть и в «Мире»; и понятно, что его разработка шла в значительной мере в контексте многолетней и многогранной работы Владимира Вениаминовича над Хайдеггером: работы, имевшей столь капитальное значение для нашего философского просвещения, что в лексиконе московского студенчества возник удивительный автор «Хайбихин». Но концепт Бибихина был не заимствованием у Хайдеггера (тем паче что Dasein и не передавалось прежде по-русски как «присутствие»!), но - согласием с ним; сам философ пишет, например, так: «Мы называем существо человека присутствием не только потому что Хайдеггер назвал существо человека присутствием, Dasein, но и потому что не видно лучшего названия этому неизвестному» [ 2 ] . Здесь важно сказать, что согласие явно фигурирует у Бибихина как отрефлектированный концепт и играет существенную роль: именно, роль своеобразного связующего принципа в порядке вещей. Для философа это также онтологический принцип, в котором ясно различимо генетическое родство с античными мотивами бытийного лада и гармонии. Согласие входит и в конституцию Мира, и в конституцию Присутствия (ср. хотя бы: «Мир - это согласие, в котором только и открывается целое... Чистое присутствие как согласие во всем» [ 3 ] ) - и вряд ли надо считать всего лишь внешней деталью, иррелевантной для философского существа, тот факт, что само продумывание этих концептов совершается у философа в элементе согласия с двумя классиками. И точно так же в элементе согласия с Хайдеггером, с дискурсом Ereignis, определяющим собою всю позднюю его мысль, развертывается у Бибихина речь о Событии, которое также, безусловно, принадлежит к центральным и заглавным концептам его философии и его онтологии [ 4 ] . Дополнительное значение и масштабность теме События придает у него еще и то, что эта тема в немалой мере вбирает в себя тему языка и слова, первостепенно важную для Владимира Вениаминовича - напомним, профессионального лингвиста и филолога-классика. Неразделимая и обоюдная связь Слова и События - фундаментальный постулат Бибихина при развертывании обеих тем. «Слово в своем существе - голос события» [ 5 ] , - читаем мы уже в первой из его книг. «Слово и событие» - так он назвал одну из последних книг, которые успел выпустить при жизни.
В свете неоспоримой онтологичности Согласия в философии Бибихина, особо многозначителен тот факт, что в развертывании еще одной темы этой философии, не менее сердцевинной и не менее постоянной, а именно, темы Энергии - мы не найдем уже ни следа согласия. Этой теме он посвятил два курса, в разные периоды творчества: в 1990 г. в МГУ и в 2002 г. в Свято-Филаретовском Богословском институте; с ней также связана теснейше и вся его работа над наследием св. Григория Паламы - работа, в центре которой его перевод «Триад», не менее нужный и важный для отечественной культуры, нежели перевод «Бытия и времени». Какой-либо серьезный разбор этой темы пока еще невозможен, поскольку из всех основных текстов, относящихся к ней, сегодня общедоступна только статья «Материалы к исихастским спорам», опубликованная в сборнике «Синергия» в 1995 г. Но можно определенно сказать, что если икономия Мира, Присутствия, События развертывается у Владимира Вениаминовича в стихии согласия, постоянно ощутимого присутствия другой мысли, созвучной и гармоничной с его собственной, - то икономия Энергии развертывается также в стихии постоянно ощутимого присутствия другой мысли; но на сей раз эта другая мысль - в совершенно иных отношениях с его собственной. Эту другую мысль об Энергии представляют православие, исихазм, Палама, и совсем рядом - С.С.Хоружий. Безусловно, это не враждебная мысль, никоим образом; но это и не созвучная мысль, а мысль, своим присутствием напрягающая, беспокоящая, тревожащая, и в отношениях с ней - не гармония, а контрапункт. «Мне не хватает злости на тебя... Отношение ... к Паламе, к «есть», к Дионисию Ареопагиту тебе придется просто пересмотреть», - пишет он мне 21 апреля 1994 г. Здесь главный узел, фокус проблемы, как всем известно, - сакраментальное отношение между энергией и сущностью. На какой-то из моих книг я ему надписал: «В сущности, брату» - и взглянул на написанное - и оно вдруг открылось, отозвалось другим, нечаянным смыслом. Я очень удивился - и уже словно под диктовку этого смысла, нечаянного, но властного, медленно и покорно докончил: «В энергии - оппоненту»...
В этой другой мысли, другой рецепции Энергии философа тревожит и напрягает ее напрасное, беспочвенное, как он убежден, стремление к альтернативе, к отходу, отказу от единственно возможного русла, в котором Аристотель и вся западная традиция. (Не исключается, видимо, даже Хайдеггер, хотя попытки его исключить были и в некой мере вопрос открыт.) Однако эти слова не выражают всей ситуации. Казалось бы, раз стремление беспочвенно - что тревожиться? нужно просто продемонстрировать эту беспочвенность, однажды и навсегда. Но если, скажем, трактовку События у Бахтина философ спокойно отвергает, нимало не находя нужным вновь и вновь возвращаться к ней, то трактовка Энергии у Паламы (и во всей с ним связанной линии) остается всегда тревожащим топосом его мысли. Как Сократ для афинян, Энергия, если угодно, - овод мысли Бибихина, не дающий ей успокоиться в радостно-гармоничном ландшафте Мира и Согласия, Присутствия и События. И такое восприятие темы Энергии сегодня в высшей степени стимулирующе и ценно. Эта тема - один из главных проблемных узлов современной мысли, где контуры решения еще совершенно не ясны, и нам предстоит отыскивать их - благодарно опираясь на обширные разработки, оставленные ушедшим философом.
Как мы сказали вначале, никакое осмысление философского дела Владимира Вениаминовича заведомо невозможно без специального внимания к его дискурсу. Этот дискурс - дискурс не просто философа, но и филолога, лингвиста, опытнейшего литератора- переводчика - крайне своеобычен, уникален в своей лексике, стилистике и поэтике, в комплексе своих приемов и средств; и его реконструкция - особая тонкая задача. Не входя в нее, скажем о другом. Искуснейшее владение всеми орудиями дискурса открывает перед философом немалые возможности злоупотребить этими орудиями: не столько напрямик утверждая, сколько протискивая и протаскивая с помощью риторических средств такие позиции, положения, которые нельзя защитить философскими средствами. Сегодня в культуре постмодернизма чрезвычайно распространено охотное и неограниченное использование этих возможностей злоупотребления: это - терроризм дискурса, отлично известный современный феномен. В русской мысли его предтеча - В.В.Розанов; он - любопытнейшее «недостающее звено», стоящее между ядовитыми и изящными острословами-парадоксалистами старых времен и новейшими террористами дискурса, авторами лобовыми или, еще верней, ломовыми: дискурс у них - тот самый лом, против которого нет приема. И отнюдь неслучайно на всем протяжении творческого пути Бибихина сопровождает глубокий интерес к Розанову: ему очень ведомо было розановское искушение, искушение терроризма дискурса. Исследователям предстоит выяснить, всегда ли философу удавалось преодолеть это искушение...
В этих скудных строках мы только назвали основные слова, указали главные вехи большой и самостоятельной философии, которую еще нужно тщательно изучать. Многое и многое еще остается сделать, прежде чем мы действительно сможем увидеть и понять мир, подаренный нам способом Владимира Вениаминовича Бибихина.
Сноски:
1. В.В. Бибихин. Мир. Томск, 1995. С. 143.
2. Там же. С.27.
3. Там же. С.113.
4. Можно отметить, что дискурс События у Бибихина включает и диалог с Бахтиным, который в своих ранних текстах представил собственную трактовку События, раскрывая его категориями «бытия-события», «события- поступка» и др. Эта побочная нить дискурса - уже не в элементе согласия; напротив, трактовка Бахтина со всей определенностью отвергается. Установив, что в этой трактовке нарушена основоположная нераздельность События и Слова, что у Бахтина Слово оторвано от События и «Событие осталось по существу безъязыким» (В.В. Бибихин. Слово и событие. М., 2001. С.101), философ не останавливается перед решительным вердиктом: «Философия поступка Бахтина оборвана не в рукописи, а в мысли... Она взяла слишком резкую ноту... и не могла продолжаться на той надрывной ноте» (Там же. С.98-99).
5. В.В. Бибихин. Язык философии. М., 1993. С.47.