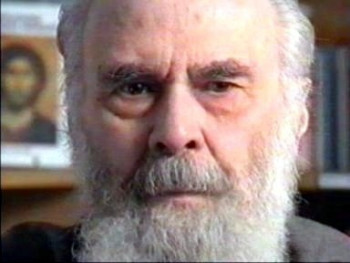Серия бесед, прозвучавших в русской религиозной программе
Вера безрелигиозная. Вера и доверие к человеку. Вера в себя.
Когда мы говорим о вере, мы всегда думаем о вере в Бога. На самом деле существует также вера в человека, и эта вера в человека определяет нашу жизнь по меньшей мере столь же постоянно и глубоко, как и вера в Бога. Кроме того, в Бога веруют не все, а для того, чтобы жить с людьми, без веры в человека не обойтись. Именно на вере в человека основаны все попытки преобразования — общественного, политического, семейного, ибо что бы ни проповедовалось — будь то религия или новый жизненный строй — если человек не вступит в труд, если человек не будет осуществлять то, что задумано, никогда оно никаким образом не осуществится. Поэтому всякий преобразователь, всякий человек, призывающий людей к
Такая вера — не легковерие, не наивное отношение к человеку, которое допускает, будто все возможно, будто стоит только обратиться к человеку — и он отзовется. Но вместе с тем это уверенность, что нет такого человека, в котором не было бы подлинной человеческой глубины, нет такого человека, в котором нельзя вызвать доброе и достойное. К этому мы приходим во всех областях жизни. Например, сейчас во всех странах света идет громадное преобразование тюремной системы. Раньше преступника заключали в тюрьму, чтобы его удалить от общества людей; он был отрезанный ломоть. Теперь все больше думают о тюрьме как о месте, где преступнику можно помочь стать человеком. Вот такое отношение и есть вера в человека. Эта вера не основана на очевидности; часто приходится сквозь очевидность заглянуть
Первый случай мы находим в Евангелии от Иоанна, в восьмой главе. Это рассказ о том, как к Спасителю привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Очевидность была против нее, она была взята в преступлении, она подлежала осуждению и строгому наказанию. Христос ее не осудил, Он осудил ее поступок; Он не принял ее как прелюбодеицу, но заглянул в глубь ее души и в ней увидел возможность новой жизни; Он прозрел в этой прелюбодеице чистоту, которая в ней не умерла. Когда эта женщина стала перед судом, когда она обнаружила, что ее грех означает смерть, она, конечно, опомнилась. В тот момент все, что ей говорили: что грех убивает, что грех разрушает, — стало реальностью: она согрешила и ее теперь, по закону того времени, побьют камнями. Она поняла, что если бы ей была дана жизнь, она больше никогда не прикоснулась бы к тому, что за собой влечет смерть. И это Христос прозрел. Он обратился к окружающим ее и сказал: Пусть тот, который без греха, бросит первый камень!.. И все ушли. И когда Христос остался один с этой женщиной, Он ей сказал: Где те, которые тебя осуждали? — Они ушли, — ответила она. — И Я тебя не осуждаю; но впредь не греши.
На этом примере мы видим, как Христос сумел заглянуть в человека и увидеть все его возможности, которые были как бы закрыты поступками этого человека.
Другой рассказ такой же поразительный: встреча Христа с апостолом Петром после того, как тот трижды от Него отрекся по страху, испугавшись. Христос его не спрашивает: Сожалеешь ли ты о том, что сделал? Он ему говорит: Любишь ли ты Меня? И Петр от души отвечает: Да, Господи! Я Тебя люблю! Но трижды ему ставит Христос этот вопрос. И вдруг, осознав значение этих трех вопрошаний, понимая, что вся очевидность против него, Петр говорит: Ты все знаешь, Господи; Ты знаешь, что я Тебя люблю! И Христос его принимает вновь в среду Своих учеников.
Разве мы умеем так поступать? Разве мы умеем поверить, что человек, который поступил по отношению к нам плохо, имеет право сказать: Да, я тебя люблю! У меня не хватило мужества, у меня не хватило глубины, во мне не хватило силы духа, но я тебя
Если бы мы так умели друг ко другу относиться! Если бы мы только умели друг во друга поверить, не быть ослепленными ни поступками людей, ни их действиями; не быть оглушенными их словами, а молчаливо заглянуть в человеческую душу и прозреть в ней возможную человечность, возможное человеческое величие, и соответственно предложить человеку новую жизнь, предложить ему наше доверие — и призвать жить в полную меру своего человеческого достоинства! Если бы мы так могли друг ко другу относиться, все было бы возможно среди людей, любые преобразования, и новая жизнь настала бы для человечества.
После прошлой беседы мне был поставлен вопрос: что если человек говорит «А мне твое доверие и вера в меня не под силу»». И мне хочется ответить на этот вопрос, потому что он очень важный.
Обыкновенно мы страдаем от того, что в нас не верят. Мы чувствуем, что в нас есть
И это человеку часто мешает. Но еще больше, может быть, мешает то, что очень часто, когда другой человек нам дарит свое доверие, он как будто верит в невозможное, то есть он как будто не учитывает, что я — просто обыкновенный, нормальный человек. Нам кажется, что он на все надеется: будто мы можем сделать все, все без ограничения, все безусловно. И тут мы понимаем, с одной стороны, что это невозможно, и боимся за это взяться; а с другой стороны, когда мы стараемся это осуществить, то обнаруживается, что мы не можем оказаться на высоте того безумного», непродуманного», безответственного» доверия, которое нам было дано. И вот здесь есть две стороны.
С одной стороны, тот, кто доверяет другому, кто в подарок, во вдохновение ему приносит свою веру, должен это делать вдумчиво, разумно, мудро; а с другой стороны, тот человек, которому эта вера дается, должен быть трезв, сознателен и прилагать все усилия к тому, чтобы творчески осуществлять свое призвание — и
В этом смысл Христовой притчи о талантах. Слово «талант» приобрело за столетие специфическое значение. Все мы знаем, что такое талант по отношению к музыке, искусству, литературе; но не об этом говорил Христос. В Его время талант была денежная мера. Вот,
Перенося эту картину на нашу обычную жизнь, мы можем, конечно, рассматривать талант, о котором говорит притча, как дар в области искусства, литературы, поэзии, но это ограниченное понимание. В основе, заложенный в нас талант — это все, на что мы способны, все богатство, все разнообразие, вся красочность нашей собственной личности. Можем ли мы ее осуществить или нет? Можем; все могут, каждый может осуществить все, на что у него хватит духа, мужества, вдохновения. И в этом центр тяжести, в этом весь вопрос. Мы должны так верить в человека, такое ему подарить доверие, так его вдохновить, чтобы он нашел в себе храбрость, мужество, радость, творческую радость себя осуществлять. Хоть он не гений — но он человек; хоть он ничем не выдается — но пусть будет самим собой настолько полно и прекрасно, как ему доступно. И тогда мы не будем на него накладывать бремена неудобоносимые, мы не станем на него накладывать тяжесть, которой он никак понести не может, потому что мы не станем требовать с него, чтобы он стал тем, чем он никогда, даже в мечте не мог быть, а будем ему говорить: Смотри: в тебе такое богатство! Осуществи его!.. Но он скажет: Где же это богатство, каково оно? — А ты не мерь! Ты просто творчески становись самим собой. Где не хватит ума — восполняй сердцем; где не хватит крепости — восполняй товариществом. И ты увидишь: чего ты не можешь осуществить один, то в сотрудничестве с другими, вместе с другими ты можешь осуществить и можешь сделать вклад в общую сокровищницу людей.
Вот если мы так с верой будем подходить к человеку, мы сможем его и вдохновить, и не раздавить своей верой, и человек вырастет в свою меру творчества и радости.
В одном из рассказов немецкого писателя Бертольда Брехта есть приблизительно такой диалог. Спрашивают одного человека: «Что вы делаете, когда любите
Часто люди думают, что такой подход — это вера в человека; что можно изучить человека, продумать его, прозреть в нем все его возможности, составить проект и затем заставить человека соответствовать этому проекту. Это ошибка и преступление, которое делают и отдельные люди в семьях, и общества человеческие, и идеологические группировки как верующих, так и неверующих людей. В семьях это приобретает иногда трагический аспект. Родители заранее знают, в чем счастье их детей, и заставляют их быть счастливыми так, как, им кажется, надо быть счастливым. Это относится также к мужу и жене; это относится к друзьям: «Нет, я знаю, что для тебя полезнее, я знаю, что для тебя лучше, ты увидишь, как все это будет хорошо!». И несчастная жертва этой убийственной, удушливой, кромсающей душу и жизнь любви иногда готова взмолиться: «Да перестань ты меня хоть любить — но дай мне свободу!».
В человеческих обществах это приобретает часто более трагические формы, когда или большинство, или
Так вот, подход господина Кернера, о котором говорит Брехт, именно отрицает самую возможность творческого хаоса; не хаоса в смысле безнадежного беспорядка, а хаоса в смысле неоформленного еще бытия, в смысле клубящихся глубин, из которых постепенно может вырасти строй и красота, осмысленность. Настоящая вера в человека берет в расчет именно то, что человек остается тайной для наблюдателя, тем более для умственного наблюдателя, потому что подлинное видение человека идет не от ума, а от сердца. Только сердце по настоящему зряче и раскрывает уму такие глубины, которые тот постичь не может; настоящая вера в человека учитывает возможность этих глубин, потаенных возможностей в них, и ожидает, что неожиданное, непостижимое может случиться.
Одно случается почти всегда. Мы человеку даем свободу и одновременно дарим ему наше доверие, обогащаем его нашей верой, вдохновляем его этой верой. И часто бывает, что в процессе становления самим собой человек отворачивается от того, кто был его вдохновителем и его поддержкой; и не только отворачивается — периодами ему необходимо от него отказаться, он должен строить свою личность, свою самостоятельность, отмежевываясь от существовавших дотоле отношений. И человек, который идет на то, чтобы вдохновить — будь то ребенка или взрослого, общество или церковность — на творческую веру, должен быть готов к тому, что от него отвернутся. Он должен испытывать свою веру в человека именно в этот момент, не усомнившись, не поколебавшись, не отвернувшись, а приняв на себя, как радостное открытие, тот факт, что начинает расти самостоятельное бытие и что человек, который дотоле зависел от него, хотя бы от его доверия и веры в него, теперь теряет эту зависимость. И если человек, который сначала вдохновил другого, одарив его верой своей, сумеет устоять в вере тогда, когда он стал излишним на время, в этом процессе становления, если он сумеет отказаться от насилия власти, убедительности или даже от мягкого, — а порой такого жестокого! — насилия любви, то он сам станет человеком в полном смысле слова или, во всяком случае, в более полном смысле слова.
И вот получается, что для того, чтобы верить в другого человека, надо верить смело, творчески в самого себя, и что если мы не верим в самих себя, если мы не верим в эти глубины, из которых может вырасти непостижимо великое, то мы не можем также и другого одарить свободой, позволяющей ему стать самим собой, неожиданным и непостижимым человеком, который сделает новый вклад — не предписанный, а личный, собственный и творческий — в жизнь общества и в судьбу человечества.
Как я уже говорил, в другого человека нельзя верить, если мы не верим в себя самих. И вот ставится вопрос: что такое вера в себя? Профессионально, житейски большей частью люди ответят: верить в себя — это быть уверенным в том, что если напрячь свою волю, собрать все силы ума, можно добиться чего угодно — ну, в пределах возможного… Такая вера в себя
Настоящая вера в себя — это уверенность в том, что во мне есть что то, чего я не знаю,
И вот вера в человека, в самого себя — это вера в то, что во мне, в каждом человеке есть непобедимая динамика жизни и что единственное, что может помешать этой динамике осуществиться и вырасти в реальность, это моя трусость, моя нерешительность, но никак не окружающие меня обстоятельства. Обстоятельства, как бы они ни были хороши или плохи, как бы они ни были жестоки, как бы они ни были направлены на то, чтобы сломить человека, являются только поводом к тому, чтобы эта внутренняя, творческая динамика себя выразила по новому,
Но это не слепой процесс, в этом должна быть зрячесть; человек в своем становлении должен также наблюдать за собой — не трусливо, не с беспокойством, не ставить себе вопрос: являюсь ли я тем, кем, в конечном итоге, я должен стать или хочу быть?.. — а с живым интересом, как наблюдатель, который наблюдает процесс, принимает его в учет и старается употребить, применить, приложить все, что входит теперь в поле его зрения. Это значит, что человек должен научиться прислушиваться к самому себе, раньше всего — к голосу своей совести, к той правде, которая в нем есть, потому что если голос совести, голос правды задушен, он никак, никогда не может быть заменен ни законностью, ни условностью, ни человеческими правилами. Дальше человек должен прислушиваться к голосу жизни, к тому, чему его учит жизнь: жизнь отдельного человека рядом с ним, жизнь общества, жизнь народа, жизнь человечества, биологическая жизнь. И, наконец, верующий несомненно должен прислушиваться к голосу Самого Бога, выраженному в Священном Писании, звучащему громче, правдивее, истиннее, чем его собственная совесть.
Все это ему дает возможность раскрыть в себе, прислушиваясь, вглядываясь, эти глубины и приложить их к жизни. В этом процессе человек должен, как я уже говорил, собрать очень много смелости, очень много мужества, потому что этот процесс — это борьба жизни против окостенелости, борьба творчества против всего, что убивает творчество, борьба совести против того, что бессовестно старается строить жизнь.
Это требует смелости — да; но вместе с тем — огромного смирения и послушания; не в том смысле, что мы должны подчиняться, а в том смысле, что мы должны смиренно, послушливо отдаться закону жизни и быть готовы жить даже ценой нашей смерти. Это может показаться странным, диким выражением, но в устах верующего это и не странно, и не дико, потому что только тот может положить жизнь за свой идеал, кто верит в жизнь и не верит в победу смерти; кто верит, что побеждает жизнь и что смерть никогда не победит; кто может любить от всей души, от всего сердца, всем умом, всей волей, всем телом своим. Только тот человек, в котором жизнь победила смерть, может жизнь свою отдать, приняв внешне побежденность, сломленность и смерть, но зная, что внутренне — он победил.
Вера и научное исследование. Сомнение. Истина и ее выражения. Вера и опыт.
Теперь я хочу снова говорить о вере, но с точки зрения совершенно иной, чем прежде. Я больше не буду затрагивать тему о вере в человека, а хочу поговорить о вере ученого в науку.
Это кажется странным; однако ученый не мог бы ничего создать, если бы не было у него веры, как ее определяет Священное Писание (как бы это ни было неожиданно для неверующего): как уверенность в вещах невидимых (Евр. 11,1). Все научное исследование, вся настроенность ученого направлены именно на вещи невидимые. Вокруг нас — целый мир еще для нас таинственный; многое в нем известно, еще больше подлежит открытию. И вот то, что подлежит открытию, и есть то невидимое, в котором ученый уверен; он уверен, что оно существует, что
А сверх того, научное исследование основано тоже и на надежде, то есть на предвкушении, радостном, напряженном ожидании того открытия, которое будет сделано, при уверенности, что есть что открыть; и таким образом и надежда ученого, его вдохновение указывает на веру. Это очень важно себе ясно представить, потому что вера не относится только к Богу. Я уже, кажется, достаточно объяснил, что она относится также и к человеку, — но она относится тоже и ко всей творческой работе ученого: без веры ученый не стал бы пускаться в исследование, нечего было бы, с его точки зрения, исследовать.
Но вот тут, мне кажется, надо сделать различие, которое очень важно, между реальностью и истиной, между сомнением и тупой самоуверенностью. Дело в том, что вокруг нас целый мир, как я уже сказал, таинственный, глубокий, многогранный, в котором многое было уже обнаружено и еще больше, может быть, подлежит обнаружению, открытию. Это реальность. Для верующего эта реальность включает в себя также Бога. Для неверующего это только материальная реальность, но она все равно, так же как для верующего — предмет изыскания. Каждый раз, когда мы делаем
И вот это сомнение, эта попытка, это желание, намерение поставить под вопрос ту картину мироздания, которую он на сегодняшний день создал, как раз и движет вперед науку. Причем в ученом это сомнение систематично: как только он создал
Таким образом, в представлении ученого есть творческое соотношение между, с одной стороны,
Истины бывают разные. Я уже указывал, что истины являются выражением той реальности, которую мы исследуем, причем выражение этой реальности бывает статическое, бывает динамическое, но всегда реальность выражается по отношению к
Статически мы выражаем очень много. Мы в
Есть картина французского художника Жерико «Скачки в Эпсоме». Как указывает название, мы видим несущихся через поле лошадей; мы видим их в движении; мы
И поэтому, каждый раз, как мы говорим об истине, будь то философской, будь то религиозной, будь то научной, мы должны сделать поправку на то, что мы или замораживаем движение, или неточно выражаем как бы анатомическую, структурную, неподвижную действительность. И притом делаем это всегда с той или иной точки зрения:
Это я вам могу изъяснить примером, который может показаться смешным, но имеет некоторую человеческую глубину. Один миссионер мне рассказывал, как
На устах верующего может показаться странным утверждение — с таким вдохновением, с такой уверенностью — права человека на сомнение; на самом деле, это только другой способ выразить известную и всеми принимаемую мысль о том, что человек должен быть честным до конца, честным безусловно, с готовностью самого себя поставить под вопрос, свои убеждения поставить под вопрос. Это можно сделать, если мы верим, что есть нечто незыблемое, являющееся предметом нашего изыскания. Человек боится сомнения только тогда, когда ему кажется, что если поколеблется уже созданное им мировоззрение, то колеблется вся реальность, колеблется все, и ему уже не на чем стоять. Человек должен иметь добросовестность и смелость постоянно ставить под вопрос все свои точки зрения, все свое мировоззрение, все, что он уже обнаружил в жизни, — во имя своего искания того, что на самом деле есть, а не успокоенности и «уверенности».
Это чрезвычайно важно в научном исследовании; это чрезвычайно важно в философском мышлении; и это не менее важно в религиозном опыте. Мы не можем перерасти ограниченность нынешнего дня, если боимся поставить под вопрос его содержание. В плане религиозном: один из писателей IV века, святой Григорий Нисский, говорил, что если мы создадим полную, цельную картину всего, что узнали о Боге из Священного Писания, из Божественного Откровения, из опыта святых, и вообразим, что эта картина дает нам представление о Боге, — мы создали идола и уже не способны дознаться до настоящего, Живого Бога, который весь — динамика и жизнь. И то же самое можно сказать о философских мировоззрениях: как только философское мировоззрение делается абсолютной истиной, не может быть поставлено под вопрос, это значит, что человек уже не верит ни в прогресс, ни в возможность углубления, а живет как бы оборотясь назад, глядя на то, что
Какая радость, что человек так велик, что может себя перерасти, и человечество так велико, что одно поколение, сменяя другое, получает наследие от прошлого и не делается его пленником и рабом, а на основании того, что
То отношение к жизни, та внутренняя установка, которую мы называем верой, то есть радостная, творческая уверенность и равновесие, содержащее одновременно и тайну, и сомнение, является одной из самых больших радостей жизни человека. И мне представляется, что радость эта идет из разных источников, она основывается на разных причинах.
Я говорил о вере в человека, о вере ученого в науку; в том и в другом случае вера заключается в том, что человек совершенно уверен, что тот мрак, та неизвестность, которые его пугают,
Но вместе с тем, эта уверенность не снимает самой проблемы; бесстрашие все равно нужно, потому что для того, чтобы поверить в человека, нужно очень много мужества: человек бывает порой очень страшен.
И последнее, что озаряет радостью область веры там даже, где она так полна сомнением, там, где ставится под вопрос сам человек, который верует, его убеждения, самые верования его, — последним источником радости является надежда, то есть
И вот в этом сличении объективного, которое требует от нас предельной добротности, предельной честности, предельной внутренней и внешней правды, разгорается такая радость веры, которой нельзя достичь никак иначе. Это мы видим в ученом, который от всей души, всем умом, всей смелостью своей (потому что многое может быть открыто только с большим физическим риском) добивается истины; в том, кто работает среди людей, встречает их в одиночку, лицом к лицу, вглядываясь в глаза человека, который ему поставит, может быть, последний, решающий вопрос; в человеке, который погружен в общественную деятельность и должен стоять перед лицом общества со всей ответственностью перед ним, но тоже — и не меньше — перед человеческой правдой.
Вот откуда рождается смелая, ликующая радость веры; и это, повторяю, доступно каждому: эта вера, этот подход является началом всякой творческой жизни. Для верующего эта радость покоится, в конечном итоге, в Самом Боге, Который является Тем, Кто все создал — и меня, и все, что вокруг меня находится, и каждого человека; для Которого все: и материальное, и духовное, и душевное, и человек, и общество, и наука, и природа, и искусство, — все имеет смысл и значение в человеческом становлении, и Который является как бы последним, глубинным динамическим импульсом, требующим от меня, чтобы я открылся, чтобы я уразумел, чтобы я встретился лицом к лицу, чтобы в этом дерзновении веры я обрел новое знание, новую полноту жизни и новую полноту веры.
Мне хотелось бы в последующих беседах говорить о вере в Бога. Я уже определял веру словами Священного Писания как уверенность в вещах невидимых. Но откуда может взяться эта уверенность?
Когда мы говорим о вере в человека, о вере в науку, о вере в наш каждодневный опыт, мы говорим о
Дальнейшее общение с человеком углубляет это понятие веры в него тем, что человек иногда поступает наперекор тому, что мы ожидаем от него. Его поступки нам могут показаться странными, неожиданными, противоречивыми. И тут мы можем ему поверить — поверить в него, допустить, что у нас нет всех данных для того, чтобы о нем произвести суждение, что мы
Так же можно говорить и о вере в окружающий мир, то есть о глубокой уверенности, что кроме видимого, кроме того, что уже наукой исследовано и открыто, есть громадные возможности новых открытий и новых познаний. Это просто, в
Разумеется, первый ответ, который напрашивается, — очень примитивный и справедливый ответ: примитивный человек будет приписывать Богу все то, чего он не может объяснить своим житейским опытом или своим человеческим умом. Но это быстро исчерпывается. Современный человек так ставить вопрос не может. Никто из верующих, у кого есть
Вот тогда и задумываешься: откуда может взяться у человека желание поставить этот вопрос о Боге? откуда берется самый вопрос? И мне хотелось бы сказать нечто именно на эту тему.
Я несколько раз употреблял слово «опыт». Что это значит? Это значит нечто очень простое. Мы говорим об опыте жизни, мы говорим о жизненном опыте, мы говорим о нашем личном опыте страдания, радости, любви. В этом же смысле надо понимать и религиозный опыт. Это совокупность всего того, что в течение истекших лет было пережито в связи с определенной темой, которую мы называем Богом. Это могут быть мгновения
Это не обязательно потрясающий, разительный опыт. Это может быть нечто постепенно складывающееся, спокойное, вырастающее, тихое, глубокое. Это может быть тоже и очень потрясающее событие человеческой жизни. Мы сталкиваемся с религиозным опытом большей частью через человека. Это может быть встреча лицом к лицу с человеком, это могут быть его слова, обращенные ко мне, либо в моем присутствии к другим людям. Это может быть человеческое слово, написанное, запечатленное в рукописи или в книге. Так или иначе, этот опыт начинается, большей частью, с
Это относится, разумеется, не только к религиозному опыту. Большая часть нашего знания, будь то в области физики, химии, биологии, истории, приобретена именно таким образом.
Наконец, есть вещи, которые мы воспринимаем из опыта редких свидетелей,
Таков опыт, например, великого художника, великого музыканта, выражающийся, в конечном счете, в произведении искусства, в музыке. Опыт, из которого он исходит, его восприятие — запределен для большинства из нас, но доходит до нас
В прошлой беседе я говорил о том, что вера в Бога достигает до нас путем свидетельства; что всегда человек доводит до нашего сознания возможность того, что Бог существует, человек ставит перед нами этот вопрос. Мне хотелось теперь остановиться немножко на разных типах свидетельства.
Я говорил, что можно свидетельствовать о своем личном пережитом опыте; можно свидетельствовать об опыте, который принадлежит тому обществу, той общине, коллективу, к которому мы сами принадлежим: мы отчасти разделяем этот опыт, но не обладаем всем этим опытом. И, наконец, может до нас достигнуть свидетельство человека настолько выдающегося, что мы только краем сознания способны коснуться краешка его опыта.
И вот об этих вещах мне хотелось бы сейчас сказать. Где кончается опыт и начинается вера? Если говорить о том, что вера основана на опыте, то чем она от него отличается? Есть в творениях древнего отца Церкви, святого Макария Великого, который жил в Египетской пустыне в IV веке, замечательное место, где он старается именно обнаружить тот момент, когда опыт превращается в веру. Он говорит об очень глубоком, потрясающем опыте приближения Бога в молитве, который ему и другим подвижникам известен или ведом. Он говорит, что в момент углубленной молитвы человек отрывается от сознания всего земного, перестает даже осознавать себя, переживает только благоговейный ужас, любовь, поклонение, радость, торжество о встрече с Богом, Который
Но возвращаясь к опыту святого Макария: он говорит, что человек, пока он в пределах этого опыта, ничего не может сознавать, кроме Бога. Но в
Вот где мы можем уловить переход из опыта в веру; и о такой вере человек может говорить с абсолютной, пламенной уверенностью, может говорить с убедительностью, потому что он говорит о том, что сам знает, чего он дознался до мозга костей, почти до разрыва сердечного.
Но мы принадлежим общине, человечеству, вокруг нас есть люди, мы не исчерпываем собой никакой человеческих опыт, включая и религиозный; у нас очень много общего с людьми, с которыми мы находимся, но этот опыт каждый человек пережил несколько иначе: у одних его больше, у других меньше; и потому что мы общаемся друг с другом, потому что мы составляем одно целое, опыт одних делается опытом других; так же как сознание красоты, правды делается достоянием всего человечества через одного человека, который сумел это пережить с предельной силой и выразить с предельной красотой и убедительностью.
Вот об этой второй области веры мы тоже можем говорить, но должны говорить с большой осторожностью, указывая, что здесь кончается мой личный опыт, а здесь я перерастаю свой личный опыт в соборности, в общении с той группой людей, к которой я принадлежу. Таков был опыт апостолов, который дошел до нас. Апостол Иоанн говорит: мы свидетельствуем о том, что наши глаза видели, что наши уши слышали, что мы осязали собственными руками (1 Ин. 1,1). Да, поскольку у нас есть частичный опыт, который сродни их опыту, мы можем поверить в их более точный, более широкий опыт.
И наконец, как я уже говорил, есть гении духа, гении ума, гении искусства, которые переживают и могут воплотить в музыку, в искусство, в научное прозрение то, чего обычный человек не может воплотить, но мы им верим, потому что ощущаем убедительность их слов, потому что эти слова доходят до нашей души, до нашего сознания как истина, как правда, потому что мы с ними уже общаемся в опыте, хотя их опыт превышает наш. Таковы, например, слова Христа. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Спаситель Христос говорит: Бога никто не видел, но Сын Божий, находящийся в недрах Отчих, Тот нам это открыл (Ин. 1,18). Мы принимаем Его свидетельство не потому, что Он говорит о чем то, о чем мы не имеем никакого понятия, а потому что у нас есть другие основания верить Его слову; и мы принимаем это Его слово, для нас еще, может быть, непостижимое, потому что другое, Им сказанное, является в пределах нашего опыта правдой и истиной, и откровением.
Вот каким образом через человека до нас может дойти вера или, во всяком случае, может быть поставлен вопрос; мы не обязательно сразу поверим, но встретив этого человека и это свидетельство, — поскольку его свидетельство, вернее, свидетельство его личности убедительно, — мы можем либо принять его свидетельство и сказать себе: этот человек это действительно знает; я постараюсь дознаться до его опыта; либо, уже на основании предрассудка, предвзятых мыслей оттолкнуть человека, сбросить его со своего пути и сказать: то, что вне пределов моего опыта, — бред; этот человек сумасшедший, его надо отстранить. Так человек науки не поступает, так поступает только безумный.
Бог -Творец и Его ответственность. Воплощение и искупление. Любовь к себе как творчество.
Кажется, я уже мимоходом упомянул, что вера, доверие ставит вопрос об ответственности того, кому доверяют. Редко, однако, говорят об ответственности Бога перед сотворенным Им миром; вместе с тем, это основная трудность, какую встречают не только неверующие, но, порой, и верующие. Какое положение занимает Бог по отношению к миру, который Он создал — непрошено, без участия этого мира — и который находится в течение тысячелетий в таком трагическом, порой мучительном состоянии? Неужели все сводится к тому, что Бог односторонним действием Своей воли вызвал к бытию целое мироздание и
Ибо справедливость не является тем, чем мы часто ее считаем, как мы ее часто видим: способностью распределять или правом награждать и наказывать. Справедливость начинается в том момент, когда мы с риском, с опасностью иногда для нашей жизни, при ограничении нашего бытия соглашаемся на существование, на динамическое становление другой личности. И признаем за ней право быть собой, а не только отражением нашей жизни. Таков творческий акт со стороны Бога. Бог нас вызывает в бытие, ставит нас перед Собой и предлагает все, что Он есть, все, что у Него есть, разделить с нами; в нашей власти — принять или отказать. Со стороны Божией это готовность до конца Себя отдать нам. Бог нас творит не актом простой воли, Он нас творит в акте глубочайшей самоотдающейся, самоотверженной любви. Отношения между тварью и Богом начинаются с любви. Он нас вызывает быть самими собой лицом к лицу перед Ним.
Но не этим кончается соотношение между Богом и человеком. В течение тысячелетий, миллионов, может быть, лет, о которых говорят и Священное Писание, и наука, человек ищет своего пути в становлении, вырастает в меру своего человеческого достоинства. И вместе с этим так часто человек свое достоинство забывает, мельчает, делается недостойным самого себя, не говоря уже о своем божественном призвании. И Бог его не оставляет. Вся история человечества говорит о том, как человек чует тайну Божию и в этой тайне Божией, через нее, в глубинах этой тайны находит самого себя, находит свое величие, находит образ или отображение того человека, которым он должен стать в конечном итоге. Бог говорит на протяжении всей истории многообразно, различными путями, через людей ясного ума и чистого сердца, через людей просвещенных, просветленных; говорит через ужас жизни, говорит через совесть, говорит через красоту, говорит через события, призывая человека вырасти в полную меру. Но Он не только говорит; говорить легко, призывать не трудно, требовать — не стоит ничего. Он делается соучастником человеческой жизни и человеческой трагедии, Он становится человеком; Он воплощается; Бог входит в историю; Бог на Себе несет ее тяжесть; Бог погружается в наш мир, и этот мир всей тяжестью, всем ужасом своим смертоносно ложится на Его плечи. В этом Божия предельная ответственность за Свое первичное решение, за основоположный акт творения. Этим Бог Себя как бы «оправдывает» перед нами. Он не зритель, Он не стоит в стороне; Он входит в гущу, в трагедию жизни и с нами в ней участвует. Этого Бога человек может принять, этого Бога человек может уважать; Ему можно довериться, Ему можно быть верным, можно видеть, что этот Бог так верит в человека, такую надежду на него возложил, так его полюбил до смерти, и смерти крестной, что можно за Ним идти, куда бы Он ни пошел: на смерть, на жизнь. Бог берет на Себя последнюю ответственность за судьбы мира, спасает мир воплощением и крестной смертью Христа.
Что же это значит? Почему смерть одного человека, Иисуса Христа, рожденного от Девы в Вифлееме, может перевесить собой весь грех человеческий? Чем эта смерть отличается от всех смертей? Она не более страшна, чем смерть, которую претерпевали в течение тысячелетий люди, стоявшие за свои убеждения, или люди, просто охваченные событиями земли. Люди страдали физически больше, чем Христос страдал на кресте; рядом с Ним два разбойника были распяты, они умирали той же смертью, что и Он. Почему же их смерть не имеет такого значения, как смерть Христа? Почему Христос — Спаситель, а эти два разбойника — не спасители мира? Скажете: один из них был злодей, а другой покаялся; злодей, конечно, не мог спасти ни себя, ни других, он только претерпевал жестокую смерть за свои злодеяния. Пусть так; а другой, который на кресте изменился, который хоть напоследок вошел в Царство справедливости, правды, любви, в конечном итоге, — чем его смерть так незначительна и чем значительна смерть Христа?
Христос — Сын Божий, Бог, ставший человеком; но Его смерть не тем значительна, что умирает в человеческой плоти Сам Бог, потому что по Божеству Своему, как Бог, Он не умирает; смерть касается Человека Иисуса Христа. В чем же ужас, и величие, и значение этой смерти? Мне кажется, вот в чем. Когда мы думаем о Христе, Боге, ставшем человеком, мы часто видим Его участие в нашей человеческой судьбе сначала в том, что Он просто стал человеком, что Безграничный был ограничен, что Вечный вошел во время, что Бог таким полным, совершенным образом соединился с тварью. Дальше мы видим, что
Но мог ли Он умереть? Ведь смерть заключается, в конечном итоге, в том, что, оторвавшись от Бога или не включившись в Божественную жизнь, мы не можем обладать вечной жизнью. Мы смертны по нашей оторванности от Бога. Как же Он мог умереть, когда Он Сам — Бог? Не напрасно мы поем на Страстной: О Жизнь вечная, как Ты умираешь? Свет невечерний — как Ты потухаешь? Каким образом может умереть Тот, Который есть Сам Бог? Как может подвергнуться смерти человеческая плоть, которая соединена, пронизана Божеством? И действительно, святой Максим Исповедник об этом уже давно, в VI веке, говорил, что в самой тайне Воплощения Иисус Христос был за пределами смерти, потому что был един с Самим Богом, был Богом воплощенным. Как же Он умирает?
Умирает Он потому, что принимает на Себя безграничную, всеконечную солидарность с человеком. Он берет на Себя судьбу человека в его оторванности от Бога, в его богооставленности, в его нищете. Вспомните слова Христа, самый страшный крик в истории, который был услышан с креста: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил? (Мф. 27,46). Это крик Спасителя, умирающего на кресте. Как же мог Он, Который есть Бог, кричать эти слова, выражающие всю трагедию человечества, весь ужас и жизни, и смерти? Мы этого объяснить, понять не можем. Но случилось то, что в
Вот почему смерть Христа, невозможная и воспринятая вольной волей, является единственной во всей истории. Бессмертный умирает, потому что захотел во всем уподобиться человеку, не разделив с ним греха. Но тогда — каким нам представляется Бог?! как Он велик, какова Его любовь?! Как нам представляется человек, его значительность для Бога?! Ведь Христос соглашается не просто умереть — умереть этой смертью по любви к человеку. Эта смерть охватывает тогда не только праведника, не только верующего, не только человека, который понимает и знает, что происходит, — она охватывает всех: нет безбожника на земле, который так пережил обезбоженность, потерю Бога, как ее испытал в момент смерти Сын Божий, ставший сыном человеческим. Тайна Христа заключает в себе всю тайну человеческого существования, весь ее ужас и всю ее славу; никто не оказывается вне тайны спасающего Христа. Бог действительно до конца, трагично и величественно, в беспредельном смирении отдает Себя на спасение мира и этим до конца осуществляет ответственность Творца за судьбы мира, который Он создал Своей волей и который Он доведет до победного конца, когда действительно человек Его познает и станет участником Божественной жизни, когда действительно вся тварь будет охвачена Божественным присутствием и воссияет вечной и Божественной славой.
Украинский философ Григорий Сковорода сказал в одном из своих писаний, что в жизни замечательно устроено: вещи нужные несложны, а вещи сложные не нужны. Конечно, такие слова можно развить в карикатуру. Но если принять их с трезвостью, то можно увидеть в них указание и на то, как можно жить. Мы очень часто не умудряемся жить, потому что чрезмерно усложняем жизнь. Мы стараемся делать невозможное, проходя мимо возможного. Мы думаем, будто только то достойно нас, что так велико и так далеко, что мы его никогда не достигнем. И если применить этот принцип к евангельским заповедям, то мы можем найти в Евангелии, в словах Спасителя Христа заповедь, указание чрезвычайно простое на вид, но с которого мы все можем начать. Это заповедь о том, что мы должны любить ближнего, как самого себя (Мк. 12, 31). Это подразумевает, что мы себя самих должны любить.
И вот на этом мне хочется остановиться; потому что если мы не сумели себя любить, мы не сумеем любить кого бы то ни было. Жизнь, опыт показывает, что мы можем одарить других только тем доверием, которое способны дать себе, той любовью, которую можем дать себе,
Конечно, надо понять, что такое эта любовь к себе. Это не любовь хищного зверя, который считает, что все вокруг существует для него, который рассматривает всякого человека как возможную добычу, который все обстоятельства рассматривает только с точки зрения самого себя: своей выгоды, своего удовольствия
Одна вещь нам очень мешает любить себя: это то, что некоторые вещи в нас самих нам противны, нам не нравятся, от некоторых вещей нам делается стыдно. Если мы хотим начать себя любить творчески, так, чтобы стать действительно человеком в полном смысле этого слова, осуществить все свои возможности, мы должны принять — хотя бы предварительно — все, что в нас есть, не разбирая, что нам кажется хорошим или привлекательным, а просто все, без остатка. Христос в одной из Своих притчей говорит ученикам, которые думали, что надо вырвать зло, чтобы осталось только добро: нет, на поле оставляют плевелы и пшеницу расти вместе, пока их нельзя ясно друг от друга отличить; иначе, при желании вырвать плевелы, вы вырвете непременно и пшеницу (Мф. 13,24–30).
Так и в нас. Иногда есть в нас свойства, которые сами по себе ничем не хороши, но которые пока — единственная опора в нашей жизни. Есть интересный рассказ из жизни Ганди. Его упрекали в том, что он подстрекал бедноту к забастовке:
Так бывает с каждым из нас. В нас есть свойства, которые неприглядны, но в данное время ничем не могут быть заменены. Человек, который труслив, с радостью назовет свою трусость кротостью и смирением. Ни в коем случае нельзя ему дать это сделать. И когда у нас самих есть это поползновение перекраситься, назвать трусость смирением, назвать жадность любовью, надо остановиться и сказать: Нет, не лги! Будь правдив! Потому что то, чем ты являешься, — это настоящий человек, а тот фальшивый образ, который ты стараешься создать о себе — сплошная ложь, такого нет; и поэтому этот несуществующий человек никогда никем стать не сможет. Тогда как тот человек, которым ты являешься, который тебе, возможно, даже очень не нравится, может измениться к лучшему.
Мы должны относиться к себе, как художник относится к материалу: принимать в учет все свойства этого материала и на основании этого решать, что можно сделать. Как художник должен проявить большое понимание своего материала и иметь представление о том, что он хочет из него сделать, так и человек, не отвергая в себе ничего, трезво, смиренно принимая себя, какой он есть, должен одновременно иметь высокое представление о Человеке, о том, чем он должен стать, чем он должен быть.
И сверх того — и это чрезвычайно важно — нужна готовность бороться, готовность побеждать, готовность творить ту красоту, которую он задумал или в которую поверил. Художник, кроме понимания своего материала и представления о том, что он хочет сделать, должен еще развить в себе и упорство, и любовь к труду, и технические способности; это все требует громадной дисциплины в художнике, во всяком творце — будь он писатель, живописец, скульптор, — и этого же требует от нас жизнь. Без дисциплины мы не можем добиться ничего. Но дисциплина может быть разная. Это может быть механическое выполнение
Абсолютное условие любви — это открытость; в идеале — взаимная, но порой — открытость со стороны одного любящего человека такая, что ее хватает на двоих. Но открытость нам бывает страшна. Открыться значит стать уязвимым; открыться значит зависеть в своей радости и в своей боли от другого человека. А это сделать можно, только если в нас хватает веры в другого человека.
Вера бывает разная. Бывает простая, детская, чистая, светлая вера: доверие, доверчивость, незнание зла, бесстрашие оттого, что никогда не была испытана жестокость, беспощадность, боль, которая наносится злостно и намеренно. Такая доверчивость не может быть названа зрелой верой; она — начало веры, она открывается в ранние годы; она иногда сохраняется в очень чистых и детских душах; но в ней
Поэтому доверчивости недостаточно; должна быть другая, более зрелая вера.
Но на пути к этому мы постоянно имеем дело — и другие в нашем лице имеют дело — с людьми, которые находятся в стадии становления, то есть с людьми, в которых свет и тьма борются — и борются иногда жестоко. И когда мы открываемся в акте веры, мы должны заранее признать свою уязвимость и на нее пойти. Уязвимость не обязательно дурное свойство. Уязвимость бывает горькая, тяжелая: уязвленное самолюбие, чувство обиды, чувство униженности тоже принадлежат к этой области уязвимости. Но не о них идет речь в любви, а о способности быть раненным в сердце — и не отвечать ни горечью, ни ненавистью; простить, принять, потому что ты веришь, что жестокость, измена, непонимание, неправда — вещи преходящие, а человек пребывает вовеки.
Очень важно выбрать эту уязвимость. И умение пронести эту готовность верить до конца и любить ценой своей жизни для того, чтобы не только ты, но и другой вырос в полную меру своих возможностей, — это подвиг. Это нечто великое, это подлинное творчество: из человека, который еще себя не осуществил, мы осуществляем Человека, мы становимся тем, чем мы можем быть и стать, и мы другому помогаем стать всем тем, чем он способен быть. В этом есть момент очень серьезной ответственности. Обыкновенно, говоря об ответственности, мы понимаем это слово как подотчетность: придется мне дать ответ — за свои слова, за свои действия, за свою жизнь. Но не только в этом ответственность. Ответственность заключается также в способности отозваться на человека, ответить ему — любовью, пониманием, верой, надеждой. В этом смысле всякая любовь в себе содержит ответственность. Ответственность перед тайной человека, ответственность перед его будущим. И
И эта ответственность в любви сочетается тоже с требовательностью. Любить расслабляющей любовью, любить такой любовью, которая все допускает и позволяет человеку становиться все мельче и мельче, все более жестоким, все более себялюбивым, — это не любовь. Это — измена. Любовь должна быть требовательной. Не в грубом смысле, не так, как мы часто действительно требуем от других того, чего сами не согласны делать, что для нас кажется слишком трудным, налагая на них бремена, которые мы не способны или не хотим нести. Нет, требовательность в любви сказывается прежде всего в том, чтобы любимого человека вдохновлять, чтобы его уверить в том, что он бесконечно значителен и ценен, что в нем есть все необходимое, чтобы вырасти в большую меру человечности.
Для этого тоже нужна с нашей стороны неколеблющаяся вера, потому что это не всегда очевидно; бывают моменты, когда блеснет перед нами светозарный образ возможного человека — и потухнет: жизнь заглушила самый высокий порыв. Вот тогда наша вера должна быть зрячая, наша надежда — пламенная, наша любовь — неколебимая; тогда мы должны со всей внимательностью, со всей опытностью помочь человеку вырасти; и только если мы так веруем, с готовностью быть открытыми до последней уязвимости и требуя от другого, чтобы он был всем, чем он способен быть, мы имеем право говорить о том, что мы его подлинно, серьезно, творчески любим: не ради себя — для него.