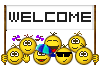О тех далеких временах врач-невролог Нина Сергеевна Н. говорила так: «когда я еще была терапевтом…» С учетом того, что неврологический стаж Нины Сергеевны составлял лет двадцать пять, а то и больше, а самой ей было… Впрочем, к чему любопытствовать у женщины об ее возрасте? Достаточно сказать, что в то время, когда Нина Сергеевна работала терапевтом в одной из поликлиник города Михайловска, вела амбулаторный прием и ходила по вызовам, она была еще совсем юной девушкой, недавней выпускницей мединститута. А в вере — и вовсе младенцем. Ибо крестилась за три года до этого. И потому ее религиозность отличалась теми пылкостью и максимализмом, которые присущи неофитам.
Так вот как-то раз…
* * *
Одного из больных, к которым в тот день вызвали Нину, звали Григорием Ивановичем. Ему было около шестидесяти лет. Судя по выпискам из онкологического диспансера в амбулаторной карте, три месяца назад у него выявили рак правого легкого, причем уже четвертой стадии, с метастазами в кости и в печень. С учетом этого, прогноз заболевания был ясен и неумолим…
Однокомнатная квартира Григория Ивановича на последнем этаже крупнопанельной «хрущевки» с лестницей, пропахшей подвальной сыростью и кошачьей мочой, имела крайне неуютный и запущенный вид, свидетельствовавший о том, что ее хозяин одинок, и не живет, а доживает свой безрадостный век. Порыжелые от времени обои, о первоначальном цвете которых оставалось лишь догадываться, разномастная мебель, черно-белый телевизор «Чайка», несколько потрепанных книжек на полке серванта. Убожество… Возможно, поэтому внимание Нины Сергеевны сразу привлекла небольшая каменная лампа-ночник в виде башни Соловецкого Кремля, белевшая на круглом столе посреди комнаты. Похоже, хозяин квартиры очень дорожил ею. Хотя с какой бы стати? Старая вещь, давно вышедшая из моды, и потому годная лишь на то, чтобы, по примеру людей, стремящихся идти в ногу со временем, отправить ее на помойку, как ненужный хлам.
Так-то оно так, и все же Нина отчего-то не могла оторвать взгляд от каменной башенки, словно это была не лампа, а шкатулка с секретом. Как видно, старик заметил это.
— Это моя первая работа. — промолвил он. И добавил:
— Всех нас сгубил этот камень…
Нина насторожилась, почуяв в этих словах больного некую тайну, до которых так падки женщины вне зависимости от их отношения к религии. В самом деле, что имеет в виду этот человек?
— А кто вы по профессии? — поинтересовалась она.
— Был? — переспросил Григорий Иванович со скорбным спокойствием, свойственным людям, у которых все уже в прошлом. — Я был резчиком по камню. Работал на здешнем камнерезном заводе. Слышали о таком?
Еще бы! Ведь детство Нины прошло на берегах Двины. И от двухэтажного деревянного дома, похожего на барак, где тогда жила ее семья, до камнерезного завода было рукой подать. Школьницей Нина частенько бегала к нему за «мелками». Точнее, за белыми, блестящими, как сахар-рафинад, камешками (позднее она узнала, что этот камень называется ангидрит), которыми была усеян невысокий берег Двины, где стоял завод. Этим камнем так хорошо было рисовать и чертить «классики» на асфальте. А однажды Нина нашла в земле под обрывом маленького белого каменного слоника со щербинкой на гладкой спине. Потом он долго хранился у нее среди игрушек, пока не пропал куда-то: не иначе, как остался в Нинином детстве.
В ту пору она не задумывалась над тем, почему здание камнерезного завода выглядит так странно: сводчатые оконные проемы и карнизы, украшенные затейливой резьбой, полукруглый выступ с одной стороны, а с другой, неведомо зачем — невысокая и явно необитаемая каменная башня, на уступе которой росла доступная всем ветрам чахлая березка. Лишь много позже Нина догадалась — это же бывшая церковь! Вот алтарь, вот неф, а загадочная заброшенная башня — не что иное, как колокольня… Храм, поруганный богоборцами, и все-таки, по неисповедимым судьбам Господним, уцелевший. Хотя почти все церкви Михайловска, включая кафедральный собор, в послереволюционные годы были разрушены. Не иначе как Пресвятая Троица, в честь Которой в свое время был освящен этот храм, спасла его от подобной участи.
Но теперь времена гонений на веру уже уходили в прошлое. А Свято-Троицкая церковь была возвращена верующим и ремонтировалась. Совсем недавно епископ Михайловский и Наволоцкий Панкратий[1] торжественно освятил один из ее приделов и отслужил в возрождающемся храме первую Литургию. При этом настоятель Троицкой церкви, отец Игорь, произнес пространную проповедь, в которой блеснул не только своим красноречием, но и знанием истории.
— Возлюбленные о Господе братья и сестры! — восклицал он, возводя глаза к свежевыбеленному церковному потолку, словно прозревая голубеющее за каменными сводами летнее небо. — Сейчас мы с вами находимся в стенах старинного намоленного храма. Два с лишним столетия наши благочестивые предки воссылали здесь славу Богу. И вся жизнь их — от рождения до могилы — была связана с ним, освящена церковной молитвой. Оттого-то нашу Русь и называли Святой. Однако есть в истории этого храма и скорбные страницы. После октябрьского переворота он был закрыт и поруган богоборцами, которые разместили в нем камнерезный завод. Более семи десятилетий в стенах Божьего храма царила мерзость запустения, а вместо молитв раздавался грохот станков. А на месте Святого Престола стояла пальма. Я своими глазами видел это засохшее дерево — наглядный символ духовного бесплодия и пагубности безбожия. Но Господь поругаем не бывает, и Его карающая длань разит осквернителей святынь. Пример тому — судьба первого директора этого завода, который умер в страшных муках от рака легких. Да он ли один?! Такая же участь постигла всех, кто здесь работал. Горе тем, кто дерзает идти против Бога! Блаженны те, кто ради Него смиренно несет свой Крест и безропотно терпит поношения и уничижения в сей временной жизни, дабы стяжать блаженство в жизни вечной. Аминь.
* * *
Подобно многим врачам, Нина Сергеевна была творческой личностью. И время от времени пописывала для «Михайловского Епархиального Вестника» статьи и рассказы, в которых занимательность сочеталась с назидательностью, искони присущей православной литературе. Неудивительно, что тогда, слушая проповедь отца Игоря, она подумала — чем не сюжет для рассказа? И заглавие для него напрашивается само собой — «Смерть грешников люта». Такой рассказ можно было бы даже послать в редакцию столичного журнала «Литературная учеба», где сейчас печатают очерки Анны Ильинской про Оптину Пустынь, да про последних тамошних старцев. И в одночасье прослыть православной писательницей, не хуже этой хваленой Ильинской. Увы, это лишь несбыточные мечты. Ведь, по словам отца Игоря, все работники камнерезного завода, закрытого шесть лет тому назад, уже умерли. Нет очевидцев — нет фактов, нет ярких деталей, вроде того упоминания о засохшей пальме в проповеди отца Игоря. А без них рассказ не напишешь.
Но вот сейчас перед ней сидит последний из мастеров михайловского камнерезного завода. Неверующий человек сочтет это счастливым стечением обстоятельств. А на самом деле это чудо. И, несомненно, оно совершено не ради этого старика, без креста на шее, без веры в душе, а ради того, чтобы Нина смогла написать рассказ о страшной участи осквернителей Свято-Троицкого храма, главным из которых был покойный директор камнерезного завода. Безбожник, коммунист, разрушитель.
— Скажите, а вы знали вашего директора? — поинтересовалась она, закончив осмотр больного и сделав назначения, сводившиеся к так называемой симптоматической терапии. В самом деле, здесь возможно лишь уменьшить предсмертные страдания…
Григорий Иванович недоуменно посмотрел на нее.
— Которого? Их два было…
— Первого.
— Петра Степановича? — похоже, старика обрадовала возможность поговорить с кем-нибудь о прошлом. — Еще бы мне его не знать! Можно сказать, я был его последним учеником. По правде сказать, не любили его у нас…
Вот как! Выходит, покойного директора камнерезного завода не жаловали собственные подчиненные… Интересно, почему? Хотя какая колоритная деталь для ее будущего рассказа: «этот богоборец, в душе которого не было ничего святого, возбуждал всеобщую ненависть»…
Старик смолк и задумался, словно пытаясь облечь в слова давние воспоминания.
— Вроде, и не с чего было его не любить, а все-таки… Странный был человек. Непонятный.
Нина поморщилась. Ведь она ожидала совсем другого ответа… А тут — сплошные загадки.
— Начать того, что он был нездешний. — промолвил Григорий Иванович. — Откуда-то с Урала к нам приехал…
* * *
Родителей своих Петька Герасимов плохо помнил. Да и неудивительно: мраморские[2] сызмальства около камню бьются, каменной пылью дышат. Оттого-то у них век и недолог. Вот и Петькины родители от чахотки померли, когда он еще совсем мальцом был. Да на счастье, взял его к себе в подмастерья старый Михаил Чупров. Слыл он мастером первостатейным — шутка ли, в свое время в самой столице работал, для тамошних церквей каменные иконостасы делал, паперти да оконные проемы резьбой украшал: увидишь — залюбуешься, а после вовек не позабудешь той красоты.
Немало поездил Петька с Михаилом Чупровым по России-матушке, по церквям и святым обителям, перенимая секреты его ремесла, да приглядываясь к работе других мастеров. Мечтал сам творить красоту из камня, да не сбылась его мечта. Сначала революция грянула, а за ней — гражданская война. Когда же она кончилась, пришла другая беда — Богу большевики войну объявили, принялись разорять и рушить храмы, сжигать иконы и церковные книги да верующих притеснять. А Господь отчего-то не спешил защитить достояние Свое и покарать богоборцев… В те страшные дни открылось потрясенному Петру — се, гибнет старый мир, сменяясь новым, где нет места Богу и нет места красоте. Что ж, коли обречен он жить в этом мире, придется жить по-новому…
И снял он с шеи крестик, подался в комсомол, а затем и в партию. Впрочем, ремеслом своим по-прежнему занимался — памятники надгробные из камня делал. А тут новая война началась — с фашистской Германией. После нее направили Петра Герасимова по партийной линии на Север, развивать для нужд советской промышленности камнерезное дело.
Так он и оказался в Михайловске.
* * *
…Тем временем Григорий Иванович продолжал свой рассказ:
— Слышал я от старых мастеров, что, когда наш завод открывали, он их заставлял станки в здание вручную заносить. За это его еще больше невзлюбили.
И, заметив недоумение на лице Нины, добавил:
— Можно было проще сделать — спустить их внутрь через крышу с помощью подъемного крана. А он уперся и ни в какую: мол, не нами построено, не нам и разрушать. Мало того — велел им здание отремонтировать. Стены жалел больше, чем людей.
Что за новая загадка?
* * *
…Она стояла перед ним — без куполов и крестов, со стенами, заклейменными гарью пожаров, время от времени вспыхивавших в ней с тех пор, как после закрытия ее превратили в общежитие для работниц Михайловской текстильной фабрики. И все-таки в каменном узорочье окон и карнизов этой церкви еще угадывалась былая красота. Кто ее построил? Бог весть. Несомненно одно — то были искусные мастера. Так вправе ли он, мастер, лишенный счастья творить красоту, разрушить их творение?
Вот только уберечь храм от дальнейшего разрушения оказалось не так-то просто. Рабочие возмущались действиями и распоряжениями своего директора. В самом деле, с какой стати они должны вручную заносить в цеха разобранные станки и там собирать их вновь? Мартышкин труд! Они же камнерезы, а не грузчики! А этот ни в какую: «только вручную, иначе пострадают стены». Да пусть они хоть прахом рассыплются! Ведь не нами строено! Но этого мало: он еще и велел побелить здание завода, и восстановить на нем каменные декоры. Да кому это нужно? С какой стати он заботится о стенах больше, чем о людях?
Впрочем, недовольны были не только подчиненные Петра Степановича, но и его начальство из Совнархоза. Камнерезный завод требовалось пустить как можно скорей. Стране были нужны панели для заводов и электростанций, плиты и цветочные вазоны для мемориалов и памятников вождям, письменные приборы для административных учреждений и почтовых отделений. Однако в ответ на требования ускорить пуск завода, и угрозы, что в противном случае он будет уволен, а то и вовсе отдан под суд, Петр Степанович твердил:
— Здание, в котором размещается предприятие — архитектурный памятник 18 столетия. И потому требует к себе бережного отношения.
А в качестве подтверждения своих слов он предъявил экспертное заключение, сделанное известным профессором-искусствоведом из Ленинградской Академии художеств, Георгием Васильевичем Бурматовым[3], который недавно посетил Михайловск. Из этого документа явствовало, что здание камнерезного завода представляет собой уникальный образец так называемого «михайловского барокко», каковое является синтезом архитектурного стиля барокко и северного народного зодчества. Собственно, сам термин «михайловское барокко» впервые ввел в научный оборот именно профессор Бурматов…
Свидетельство столь авторитетного эксперта, как профессор-искусствовед из Ленинграда, возымело действие: Петра Степановича оставили в покое. Спустя год михайловский камнерезный завод был торжественно пущен и начал выпускать плиты, панели, письменные приборы, одним словом то, в чем нуждалась экономика страны, уверенной поступью шествующей под красными знаменами к грядущему торжеству коммунизма.
* * *
— А вот мастером он был хорошим. — задумчиво произнес Григорий Иванович, словно желая замолвить слово за всеми нелюбимого покойного директора. — Хотя до поры никто о том не догадывался. Да как в конце пятидесятых годов на нашем заводе художник появился — вот тут-то он свое мастерство сполна и проявил. Такую красоту из камня делал… Одно слово — мастер.
* * *
Молодой художник Юрий Сивцев, в 1957 году приехавший в Михайловск из Ленинграда, был человеком наблюдательным. И потому он сразу заприметил на дворе местного камнерезного завода курган из белого камня. То были отходы здешнего производства. Брак, обломки, годные лишь на выброс. Однако Юрий Сивцев не зря был художником. И, вспомнив, как в свое время великий Микеланджело изваял один из своих шедевров из глыбы мрамора, забракованной другими скульпторами, он предложил Петру Степановичу использовать отходы основного производства для изготовления сувениров. Мало того — представил ему эскизы будущих изделий.
И хотя эти изделия были всего-навсего безделушками, Петр Степанович заинтересовался предложением молодого ленинградца, с изумлением и восторгом открывавшего для себя Север. Ибо увидел в его эскизах ту красоту, которую когда-то в юности мечтал творить сам. Вот оленья упряжка мчится по сугробам, словно парусная лодка — по морским волнам. Вот мальчик в малице стоит возле чума, задрав голову к небу, и любуется переливами северного сияния. Вот старый ненец, держа в руках газету, увлеченно читает о том, что творится и строится на далекой Большой Земле. А вот бежит девушка-ненка с письмом в руке — так радуется долгожданной весточке, что словно по воздуху летит от счастья. Экая красота! Вот бы воплотить все это в камне! Что ж, почему бы и нет? «Северная тема» сейчас становится популярной…
Теперь Петр Степанович каждое воскресенье приходил на завод и часами в полном одиночестве вытачивал из камня пробные экземпляры новых изделий, доводя их до того совершенства, к которому всегда стремится истинный мастер. Лишь после этого за дело брались резчики и полировщики из недавно открытого на заводе художественного цеха. Впрочем, старый директор контролировал их работу с дотошностью, вызывавшей у них недоумение и недовольство — ведь речь шла всего лишь о безделушках…
Однако в михайловских промтоварных магазинах все эти «Оленьи упряжки», «Ненки с письмом» и «Сполохи над тундрой» раскупались на ура, так что за несколько месяцев прибыль художественного цеха превысила годовой доход от основного производства. А Юрий Сивцев, окрыленный первым успехом, уже рисовал новые эскизы: каменных шкатулок, письменных приборов, светильников. В это время Петр Степанович обратился к нему со странной просьбой…
* * *
— Тогда мы уже делали ночники. — сказал Григорий Иванович, глядя на каменную башенку, белевшую посреди круглой столешницы как айсберг посреди океана. — В виде избушек, в виде сов. А он еще и вот такой придумал, с Соловками.
Помолчав немного, он пояснил:
— Это сейчас у нас, куда не глянь — везде Соловки. И на солонках, и на деревянных ложках, и на значках, и на календарях. Мода нынче на все это. Опять же — для туристов. А в те времена туда туристов еще не возили. Странно — откуда он тогда знал про Соловки? Бывал, что ли, там когда-то?
Еще одна загадка!
* * *
…Когда на горизонте наконец-то показался Соловецкий монастырь, небо уже покрылось синевой — предвестницей наступающей сентябрьской ночи. На фоне этой густой бархатной синевы монастырская колокольня, храмы, стены и башни казались выточенными из черного агата. Вдруг в бойнице одной из башен блеснул огонек. И Петьке, стоявшему в толпе богомольцев на палубе монастырского парохода «Вера», показалось, что внутри башни, подобно огню в лампаде, горит звезда. И он глядел на нее, не видя и не слыша ничего вокруг. Красота-то какая!
В Соловецкой обители они с Михаилом Чупровым прожили почти год. Работы у них хватало: ведь это только говорят, будто камню сносу нет. У одного храма требовалось крыльцо подправить, у другого — декоры на стенах обновить, а где и новые колонны для иконостаса выточить. Между делом Петька весь монастырь обегал: побывал и в кузнице, и в кожевне, и в доках, и на мельнице. Даже заглянул в оранжерею, где в парниках с хитроумно устроенным подогревом зрели арбузы, дыни и персики. Трудолюбивы были соловецкие монахи, и водилось среди них немало таких мастеров, каких в миру только поискать.
Познакомился Петька и кое-с-кем из братии, да из мальчишек: послушников и годовичков[4]. А с одним из них: зырянским[5] пареньком Егоркой Бурматовым, учеником монастырских иконописцев, даже подружился. Да не на год-два — на всю жизнь. Не забыл Георгий Бурматов, теперь уже маститый профессор-искусствовед, их старую дружбу — помог отстоять Троицкую церковь…
А к той башне Петька потом много раз прибегал — хотел снова увидеть звезду. Однако видел лишь камень: серый, холодный, мертвый. Что до звезды… теперь она жила в его памяти.
Возможно, оттого самыми светлыми воспоминаниями в жизни Петра Герасимова были детские воспоминания о Соловецкой обители.
* * *
Из всех эскизов и чертежей, которые по его просьбе сделал Юрий Сивцев, Петр Степанович выбрал один. То был эскиз светильника-ночника в виде Белой башни Соловецкого кремля. Теперь нужно было воплотить замысел художника в камне.
В ближайшее воскресенье Петр Степанович приехал на фабрику. Войдя в свой кабинет, сменил костюм на робу и брезентовый фартук, белесые от въевшейся в ткань каменной пыли. Затем взял со стола эскизы и чертежи, прошел в цех, и четырьмя точными ударами зубила отколол кусок снежно-белого ангидрита. Стамеской отбил грани, придав куску камня цилиндрическую форму. Зажал заготовку в токарном станке и, приложив грубый рашпиль, начал неспешно и уверенно обтачивать мягкий камень.
Он работал самозабвенно, не замечая повисшего в воздухе облака каменной пыли, которое с каждым новым проходом напильника становилось все гуще и гуще, так что от цехового «дымососа» было мало проку. Пыль забывалась в ноздри, оседала на коже и волосах. Но Петр Степанович не замечал этого — ведь сейчас под его руками из куска камня рождалась красота. А разве есть для мастера большее счастье, чем возможность ее творить?
* * *
…Первый секретарь Михайловского горкома КПСС товарищ Лунев с недоумением смотрел на стоявший перед ним каменный светильник нового образца, запуск которого в производство зависел от его решения. И, чем дольше он его разглядывал, тем больше ему казалось — он где-то уже видел эту башню. Вот только где именно?
— Что это? — спросил он Петра Степановича, ожидавшего его ответа со спокойствием мастера, на глазах у которого вершится судьба его творения.
— Это Соловецкий Кремль.
— Что? — ужаснулся товарищ Лунев. — Соловки?! Да вы с ума сошли! Сегодня Соловки, а завтра что? Бюст отца народов принесете? Нет, я не могу это разрешить!
Вместо ответа Петр Степанович извлек из портфеля только что вышедшую книгу профессора Г. Фруменкова «Узники Соловецкого монастыря»[6] и открыл ее на той самой странице, которую накануне заложил закладкой. Он предвидел, что это понадобится. В самом деле, неоспоримый аргумент ученого, подкрепленный документальными свидетельствами…
— Это Белая башня. — пояснил он. — Ее еще называют Головленковой башней. В нее во времена царизма заточали борцов за свободу и права народа. Например, в ней сидел один из участников восстания декабристов — Александр Горожанский. А декабристы — это первые русские революционеры. Кстати, в этом году будет праздноваться 135-летняя годовщина со дня их восстания.
— Ну, если в ней революционеры сидели, тогда другое дело. — голос секретаря горкома вновь обрел спокойствие и уверенность. — Тем более что на Соловках теперь музей. Следующим летом туда повезут туристов. Вот мы их и обеспечим северными сувенирами. А тут еще и юбилей восстания декабристов… Что ж, весьма кстати…
Выйдя из кабинета всесильного партийца, Петр Степанович закашлялся. Впрочем, не от только что пережитого волнения. Его и раньше время от времени беспокоили приступы кашля. Однако в последние месяцы они участились. Вот и на сей раз…
— Что с вами? — встревожилась пожилая секретарша, сидевшая в приемной. — Вы простыли?
— Нет-нет. — поспешил уверить ее Петр Степанович. — Это у меня бывает…
Но это не успокоило участливую женщину. Скорее, встревожило.
— Сходили бы вы к врачу. — посоветовала она. — Со здоровьем не шутят. Погодите-ка, я сейчас позвоню в нашу поликлинику. Алло… Николай Прокопьевич? Здравствуйте. А я к вам с просьбой…
Спустя десять минут Петр Степанович уже ехал на другой конец Михайловска, где его ждал доцент кафедры госпитальной терапии Николай Прокопьевич Заборский. И мысленно клял себя за то, что причинил людям столько хлопот. Причем совершенно напрасно. Ведь лучшее средство от болезни — не обращать на нее внимания. Сама пройдет. Вдобавок, есть дела поважней, чем беготня по врачам: нужно поскорее запустить в производство новый светильник. Некогда ему болеть!
* * *
Доктор Заборский осматривал Петра Степановича долго и внимательно. Прослушал легкие, мало того — даже проперкутировал их[6]. Пропальпировал живот и лимфатические узлы. Однако так и не смог понять, чем болен этот старик, упрямо считающий себя здоровым. Хотя было очевидно — он болен, причем болен серьезно. Но чем? С такой патологией легких ему, опытному терапевту с многолетним стажем, еще не приходилось встречаться.
Что ж, в таком случае больного нужно тщательно обследовать. Сделать рентгенографию легких и спирографию, взять мокроту на посев. Тогда наверняка удастся поставить диагноз и назначить лечение. А успех лечения во многом определяется доверием пациента к врачу.
И все-таки: что это за болезнь?
* * *
— Он сам меня учил, как ее вытачивать. — донесся до Нины Сергеевны голос Григория Ивановича. — Я же тогда был еще начинающим камнерезом… А потом проверял мою работу, да не по разу. И все был недоволен — то один недочет заметит, то другой, и исправить требует. Мало того — сам покажет, как переделать. Я еще думал тогда — что это он все к моей работе придирается? Ведь не хуже, чем другие работаю! Да он твердил, чтобы я равнялся не на худших, а на лучших. Как настоящий мастер…
* * *
В те дни к Петру Степановичу словно вернулась молодость: он был готов свернуть горы. И хорошо, что так. Ведь дел было невпроворот. Требовалось проконтролировать работу резчиков и полировщиков, договориться с Вологодским электромеханическим заводом о поставке арматуры для светильников, заключить договора с торговыми организациями. А потом срочно начать выпуск новой партии башенок-ночников. Потому что первая партия, поступившая в городские промтоварные магазины, в считаные дни была раскуплена нарасхват. Как видно, не одному ему дорога память о Соловках…
* * *
Поздним октябрьским вечером, когда Петр Степанович вышел из заводской проходной, к нему подошел пожилой незнакомец. Судя по высоко поднятому воротнику его куртки, он уже давно поджидал старого мастера. Вот только зачем?
— Скажите, не у вас ли сделали лампу в виде соловецкой башенки? — спросил незнакомец.
Вопрос был настолько внезапным и неожиданным, что Петр Степанович насторожился. В самом деле, что имеет в виду этот человек? И кто он?
— Вам что-то не нравится? — ответил он вопросом на вопрос.
— Нет, напротив. — промолвил незнакомец, пряча лицо в воротник куртки. — Просто эта вещь напомнила мне молодость. Я тогда был на Соловках.
— Вот как? — оживился Петр Степанович. — Знаете, я ведь в молодости тоже был там вместе со своим учителем.
— Когда?
— В 1915 году.
— А я, к сожалению, несколько позже…
— Если не секрет — когда именно?
— В 1927-м.
Воцарилось молчание. А потом двое пожилых мужчин, видевшие друг друга в первый, и, вероятно, в последний раз в жизни, протянули друг другу руки…
* * *
…-А мы-то думали, будто он людей не жалеет. — промолвил Григорий Иванович, и в голосе его слышалась та скорбь, с какой мы вспоминаем о собственных непоправимых ошибках. — Себя-то он еще больше не жалел. Может, начни он вовремя лечиться — жил бы себе да жил. А он все работал, как одержимый, словно напоследок наработаться не мог. Горел на работе — вот и сгорел.
* * *
Петр Степанович был настолько занят подготовкой к выпуску второй партии каменных башенок-светильников, что не обращал внимания на кашель, донимавший его теперь уже не по разу на день. До докторов ли ему? Прежде всего — работа. Остальное подождет.
Однако доктор Заборский, проанализировав результаты обследований Петра Степановича, пришел к совсем иным выводам. Хотя не решился счесть их окончательными. Все-таки он не пульмонолог. Ясно одно — этот случай из тех, когда промедление смерти подобно.
Поэтому он сам позвонил директору камнерезного завода:
— Петр Степанович, нам необходимо встретиться. Желательно завтра же.
— Это так срочно? — буркнул Петр Степанович. В самом деле, что за спешка? С какой стати?
— В ваших интересах не затягивать. — послышалось из телефонной трубки.
…Николай Прокопьевич Заборский подбирал слова с предельной осторожностью. У Петра Степановича имеются серьезные проблемы с легкими. Поэтому ему целесообразно съездить на Северный Кавказ, в специализированную клинику для легочных больных, и там пролечиться. Причем как можно скорей.
— Сколько у меня времени? — спросил Петр Степанович, недовольный тем, что врач отчего-то не говорит ему прямо, чем же все-таки он болен. Вечно эти доктора темнят… Оттого и говорят, что «врач» от слова «врать» — никогда правды не скажет!
Однако доктор Заборский опять ушел от прямого ответа:
— Не стоит запускать болезнь.
— Но сейчас я не могу поехать. — Петр Степанович все еще отказывался поверить в то, что он серьезно болен. — В следующем месяце у нас намечен очередной выпуск новой продукции. Дело на контроле у первого секретаря. Нет, сейчас я не могу оставить завод.
— Я понимаю вас. — ответил доктор тоном взрослого, пытающегося урезонить упрямое дитя. — И все-таки советую вам как можно скорее начать лечение. Повторяю — это в ваших интересах.
Что еще он мог сделать? Бесполезно взывать к благоразумию человека, который любимое дело ценит превыше собственной жизни. Единственный способ сломить его упрямство — сказать о своих предположениях. Но вправе ли он, врач, сделать это? Ведь лишить больного надежды на выздоровление — все равно, что вынести ему смертный приговор. Возможно, он ошибается… если бы так!
* * *
Спустя полтора месяца после этого разговора, морозным и вьюжным ноябрьским вечером, Петр Степанович, поеживаясь от холода, от которого не спасало даже теплое пальто, стоял на перроне Михайловского железнодорожного вокзала, ожидая поезда, который должен был отвезти его на лечение в края, где, как говорят, всегда царит лето. Он все-таки решил туда поехать. Потому что с недавних пор стал кашлять кровью. Вдобавок, к кашлю присоединились озноб и резкая слабость, мешавшая ему работать. Похоже, он запустил свою болезнь… Что ж, зато он успел сделать самое главное — исполнил свою мечту. Его творения переживут его самого и послужат людям. Ведь, как бы ни менялся мир, без красоты человек жить не может.
* * *
— Через два месяца после его отъезда оттуда пришла телеграмма, что он умер. — Григорий Иванович смолк и заговорил вновь лишь немного погодя. — По правде сказать, никто из нас о том не пожалел. Я ж говорю — не любили его… А вскоре вслед за ним и другие мастера умирать стали. И все от рака легких. Тут его опять принялись недобрым словом вспоминать: мол, не иначе как тут что-то нечисто — ведь первым-то он умер… Это потом, когда уже санэпидстанция и профсоюз вмешались, оказалось, что все дело — в каменной пыли. Мы же годами ею дышали. А она-то этот рак и вызывает… Признали наше производство вредным, и закрыли завод. Да уже поздно было. Сгубил нас этот камень…
Он поднял глаза на белевшую на столе башенку-светильник, словно то был надгробный памятник мастерам михайловского камнерезного завода. А потом заговорил вновь, сбивчиво и бессвязно, как говорят люди, делящиеся с собеседником самыми сокровенными своими думами:
— Я-то, было, думал — зачем… Кому все это теперь нужно? А вот, выходит, еще помнят люди… Значит, не зря мы жили.
С решительностью человека, расстающегося с самой дорогой для себя вещью, он взял в руки каменную башенку и протянул ее Нине Сергеевне.
— Возьмите. Это вам на память.
Вот как?! Выходит, если эта встреча и в самом деле чудо, оно совершено не ради нее одной. Но и для этого неизлечимо больного старика. Более того — ему, не верующему в Бога и не верящему в чудеса, это чудо нужней, чем Нине. Ведь легче расставаться с жизнью, когда знаешь — ты прожил ее не зря.
* * *
Придя домой, Нина поставила подаренный светильник на свой письменный стол. И задумалась. Потому что от ее первоначального замысла написать рассказ о Божией каре, постигшей осквернителей святыни, главным из которых был покойный директор михайловского камнерезного завода Петр Герасимов, не осталось, как говорится, камня на камне. Вся эта повесть дивная и ужасная была лишь плодом ее пылкого воображения. А на самом деле… Увы, рассказ последнего человека, знавшего Петра Герасимова, был полон загадок. За исключением разве что одного — покойный директор камнерезного завода был мастером. А мастер познается по творениям. Вот только от Петра Герасимова не осталось ничего, кроме ученической копии его последней работы. Может ли она пролить свет на то, кем все-таки был этот странный человек, чье имя означает «камень»? Вряд ли…
И, уже не надеясь на чудо, Нина зажгла лампу. На ее глазах белый непрозрачный камень, из которого была сделана башенка-светильник, преобразился, засиял изнутри, словно в нем была скрыта звезда. И вдруг все, что рассказывал о покойном Петре Герасимове его последний ученик, предстало перед Ниной в ином свете. Теперь ей стали понятны и его, на первый взгляд необъяснимая забота о стенах храма, в здании которого размещался завод, и даже то, почему пресловутая пальма была поставлена именно на месте церковного Престола. В самом деле, ведь тогда ничья нога не попрала бы святое место… Вот только поверят ли ее единоверцы в то, что Петр Герасимов был не разорителем, а хранителем Троицкого храма? Ведь ничто так не ослепляет людей, как предубеждение.
Что ж, в таком случае она напишет рассказ о другом. О той искре Божией, что таится в душе каждого мастера, побуждая его творить красоту. Даже ценой собственной жизни.
Чтобы память не угасла…
________________
[1]Епископ Панкратий возглавлял Михайловскую и Наволоцкую епархию со второй половины восьмидесятых по первую половину 90-х гг.
[2]Так в старину называли тех, кто работал на Екатеринбургском гранильном (Мраморном) заводе. В известном сказе П. Бажова «Синюшкин колодец» о «мраморских» говорится так: «краше тамошних девок нет, а женись на такой — овдовеешь. С малых лет около камню бьются — чахотка у них».
[3]Северная фамилия. В переводе с языка народа коми — «добрый человек».
[4]То есть, мальчиков, отданных на послушание в монастырь во исполнение какого-либо обета. Обычно — на год. Нередко такие «годовички» не хотели возвращаться в мир и становились монахами.
[5]Зырянами называли когда-то представителей народа коми.
[6]Первое издание этой книги вышло в 1965 г. По мнению Г. Фруменкова, декабрист А. С. Горожанский некоторое время содержался в заключении в Головленковой башне.
[7]Перкуссия — метод обследования посредством простукивания.
Комментарии
заставили задуматься
Гость Галина, 14/04/2015 - 14:49
Христос воскресе! прочитала, не отпускает... это не то, что в английском учебнике у Алеши Stone Flower, где мало о труде, а больше о влюбленности Данилы и Кати... спаси Господи, матушка Евфимия.
Данила-мастер дело знал
Монахиня Евфимия Пащенко, 14/04/2015 - 23:48
Воистину Воскресе! Как ни странно - пару сказок Бажова перечитала в процессе написания. Гениальный сказочник. И как расставлены смысловые акценты! С одной стороны: муки мастера, желающего создать шедевр...любой ценой. С другой - иная тема - мастер должен остаться человеком (это понимает Хозяйка Медной горы, отпускающая Данилу к любимой девушке...и смелость девушки она оценила). Здесь рассказ о другом - о мастере, заплатившем за счастье творить - жизнью. Вспоминались нечитанные "Поющие в терновнике" (собственно, история о птице, цена песни которой - жизнь... Уайльдовские "Соловей и роза"), и любимый с детства "Фауст".
Процесс труда описан благодаря соавтору. Моя - идея (хотя размыто).
А трагедия еще в том, что все это - безделушки, которые выбрасывают, когда они выходят из моды. Кому есть дело до того: это - цена жизни мастеров?
Драма...но, возможно, это - судьба каждого, кто что-то творит. У каждого - своя. Помню, читала, будто Карл Брюллов говорил: "моя жизнь - как свеча, зажженная с двух концов, которую посредине держат раскаленными щипцами".
Страшное сравнение...
Но у нас сейчас - Пасхальные торжества Светлой Седмицы.
С Пасхой Вас!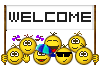
Замечательная история
Инна Сапега, 04/04/2015 - 18:55
Замечательная история получилась, Матушка. Светлая, не смотря на грустные судьбы героев. И здорово, что история эта почти документальная, как я поняла из комментариев.
Спасибо!
о докторе Фаусте и каменных лампах
Монахиня Евфимия Пащенко, 04/04/2015 - 19:27
История замечательная. Но ее мне рассказал Д.В.И. Я же только записала, изрядно беллетризировав. И изменив имя героя с Михаила на другое - Петр ("камень"). Кое-где вышло сусально, хотя я всеми силами старалась убрать слащавость. Нина бледновата. Но...как смогла.
История во многом реальна. Действительно, был камнерезный завод в здании Троицкого храма на берегу Северной Двины. Делали там всякие интересные фигурки: ночники, пепельницы, письменные приборы, панно. Уцелело мало что: камень хрупкий, да и мода меняется... И тамошние мастера именно так и умерли.
Для меня идея повествования в том, что за дар и возможность творить (даже, вроде, безделицы) человеку подчас приходится платить дорогую цену. Но он на это идет...ибо жить без того не может. Отчасти тема "Фауста". Думаю, окажись я на месте оного Фауста, купилась бы именно на это. Но это уж высоко забираю... не ворон - вороненок...
Для меня эта книга: одна из любимых, прочитанных в детстве (по переводу Холодковского). Вот вскорости опять пойду в "театр Луны", посмотрю еще раз постановку "по мотивам" (в ней Фауст останавливает мгновение, чтобы спасти от смерти Гретхен). "Фаустуса" Манна пыталась читать, но там - безысходность полная. Хотя и это - правда. В зависимости, наверное, от того, кто - Фауст. Раб Божий, заблуждающийся, но Божий, как у Гете, или...
С Вербным Воскресеньем Вас! "Скоро Пасха", как говаривал наш покойный регент Василий Семенович...
С любовью - Е.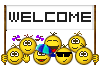
Опять радуете, матушка
Татьяна, 01/04/2015 - 19:51
Опять радуете, матушка Евфимия. У меня сотрудница - большая ваша поклонница. Я её сегодня распечатку принесла этого рассказа - последнего. Видели б вы её радостью
Спасибо за труды!
Не я радую - вы радуете
Монахиня Евфимия Пащенко, 01/04/2015 - 23:08
Не я радую - вы радуете. Тем, что читаете и радуетесь.
Собственно, сюжет не мой, как и ряд фрагментов в рассказе. Моя только запись. И кое-какие психологические моменты. Самое трудное было - концовка. Все было понятно, и то, что лампа будет зажжена, и другое. Но даже по наброскам другого человека писать сложно.
Кстати, не так давно вышла книжка моих рассказов - "Драма из приходской жизни", с текстами, которые впервые появились на "Омилии". Собственно, "Омилии" я обязана тем, что публикуют. А кому еще - тому посвящена эта книга.
Бог даст, еще удастся порадовать почтеннейших читателей! Хотя скоро настанет общая наша радость - Пасха!
Спасибо вам обеим! м. Е.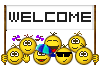
Матушка Евфимия, спасиБо за
Татьяна Тимошевская, 30/03/2015 - 15:48
Матушка Евфимия, спасиБо за интересный рассказ. Читается на одном дыхании. А в жизни, действительно, мы часто видим то, что хотим увидеть, а не то, что есть на самом деле. Сама не раз оказывалась в плену своих ложных представлений.
Верно Вы уловили
Монахиня Евфимия Пащенко, 30/03/2015 - 22:11
Вы верно уловили смысл рассказа, уважаемая Татьяна! Сейчас выправлю иначе: "ничто так не ослепляет и не ОЗЛОБЛЯЕТ, как предубеждение". Кстати, история реальная. И церковь - Троицкая, и камнерезный завод там был...мелки-слоники-светильники. И те, кто вытачивал все это, именно так и умерли.
В тексте есть много шероховатостей. Раскрою "кухню" - дольше всего писался финал. Было понятно все. Вплоть до того, что лампа должна быть включена, и тогда...
Петра Герасимова мне самой жаль. Мастер - что тут сказать! Но, думаю, настоящий мастер заплатит за право творить чем угодно, хоть жизнью. Как Фауст за возможность познать истину готов был пожертвовать душой. Как раз сейчас перечитываю гениальную трагедию Гете, восторгаясь бездной премудрости...сколько ж он писал эту книгу! Да еще схожу в "театр Луны", снова просмотрю пьесу по мотивам гетевского "Фауста". Там все проще - он пожертвовал душой, чтобы спасти от казни Гретхен. Книга из детства - у нас дома каким-то чудом был "Фауст", с купюрами, понятное дело. Но памятно до сих пор...
Спасибо, что прочли! Первому читателю - слава и почет!
святая мученица Евфимия, моли
Гость Галина, 02/04/2015 - 15:21
святая мученица Евфимия, моли Бога о нас! СпасиБо, матушка, за Ваши повести и рассказы!
Вы угадали!
Монахиня Евфимия Пащенко, 04/04/2015 - 15:28
Вы угадали! Второго апреля у меня и впрямь был день Ангела!
Но это Вам спасибо - не мне. Спасибо читателям!
И с Вербным Воскресеньем!