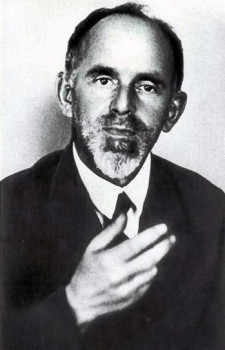Прямизна нашей мысли не только пугач для детей,
Не бумажные дести, а вести спасают людей.
О.М.
Весть летит светопыльной обновою,
И от битвы вчерашней светло.
О.М
В письме Мандельштама к Тынянову от 21 января 1937 года — таком судорожном и трудном, написанном поистине de profundis, из глубины, из бездны, — есть слова:
«Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе».
Ничего не скажешь — все исполнилось, все сбылось. Предсказание воронежского ссыльного оправдано временем. Стихов его невозможно отторгнуть от полноты русской поэзии. Сдвиги «в ее строении и составе» необратимы — след алмазом по стеклу, как Мандельштам выразился однажды о воздействии Чаадаева. Масштаб мандельштамовского творчества — объективно уже вне споров. Другое дело, что всегда, может быть, будут люди, которых Мандельштам просто раздражает; что же, в его мысли, в его поэзии, во всем его облике и впрямь есть нечто царапающее, задевающее за живое, принуждающее к выбору между преданностью, которая простит все, и нелюбовью, которая не примет ничего. Отнестись к нему «академически», то есть безразлично, не удается. Прописать бесприютную тень бесприютного поэта в ведомственном доме отечественной литературы, отвести для него нишу в пантеоне и на этом успокоиться — самая пустая затея. Уж какой там пантеон, когда у него нет простой (с. 190) могилы, и это очень важная черта его судьбы. Что касается литературы, не будем забывать, что в его лексиконе это слово бранное: отчасти вслед за дорогим ему Верленом1, но куда резче Верлена и с другими акцентами. «Было два брата Шенье — презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил». У нас еще будет случай подумать и поговорить о смысле этой фразы; а пока будем помнить поразительный факт: бытие поэта понято Мандельштамом как смертельная борьба не с «литературщиной», а с литературой, то есть именно с тем, говоря по-соловьевски, отвлеченным началом, которое берется благодушно узаконить поэзию — и через это благополучно нейтрализовать ее. Вот перспектива, перед лицом которой поэт — «оскорбленный и оскорбитель».
Сказав о песни, о своей песни: «утеха для друзей», Мандельштам недаром поспешил добавить: «и для врагов смола». По правде говоря, не одним врагам с ним нелегко. Лермонтов у него назван «мучитель наш»; не раз возникает искушение — переадресовать эти слова ему самому. Если он нас измучил — каково же с ним тем, кто выбрал нелюбовь к нему? Положительно, без темных лучей вражды спектр того ореола, в котором является нам мандельштамовская поэзия, неполон. Если эти лучи погаснут, если Мандельштам перестанет тревожить и озадачивать, это будет плохая примета, знаменующая окончательную победу отношения к его поэзии не как к вести, а как к вещи, утехе уже не для друзей, а для коллекционеров. Но пока этого не случилось — голос вражды вместе с иными голосами по-своему свидетельствует о значении присутствия Мандельштама в нашей культуре и нашей жизни.
Об этом — уже не имеет смысла спорить. Но все, что касается облика поэта и характера его поэзии, — область содержательных разногласий. «Мандельштамисты» в нашей стране и за ее пределами разделены острыми спорами: достаточно вспомнить (с. 191) резкость, с которой делаются заявления «за» или «против» при обсуждении «мифологической» интерпретации, методологии школы Тарановского и т. п.2 А как поляризуются черты личности в изображении мемуаристов! Воспоминания Н. Я. Мандельштам и А. А. Ахматовой, отчасти Б. С. Кузина и Н. Е. Штемпель3 дают монументальный образ, в котором к реальности ничего, в общем, не прибавлено, вот только кое-какие «случайные черты», как это называлось у Блока, стерты. Напротив, именно демонументализирующие, дегероизирующие черты выходят на передний план в записях Э. Г. Герштейн,4 сила и слабость которых — в отсутствии пропорций, то есть сортировки материала. Но даже у Надежды Мандельштам и Кузина социальная позиция поэта в одни и те же годы выглядит совершено различной, а интерпретаторы разводят линии еще дальше — на одном полюсе творится либерально-гражданственная легенда о поэте, чуть ли не главной заслугой которого оказывается обличение сталинизма; на другом, как у Г. Фрейдина, все гражданские мотивы мандельштамовской поэзии без остатка сводятся к игре, к «театру для самого себя», к инсценировке импровизируемой мистерии на тему обреченности избранника. Споры об этом непосредственно затрагивают конкретнейшую текстологическую практику — как в случае последней строки стихотворения «Если б меня наши враги взяли...» То же — с отношением Мандельштама, что называется, к культурному наследию; проблема в его случае важная, недаром же хрестоматийной стала мандельштамовская формула об акмеизме как «тоске по мировой культуре», но прийти к согласию хотя бы о подходе к этой проблеме не получается. Одни интерпретаторы склонны априорно ожидать от поэта в каждой строке чудес эрудиции, другие, напротив, (с. 192) ссылаются на отложившиеся в анекдоты отголоски пересудов о пробелах в его познаниях, задают провокационные вопросы, вроде такого, например: а дочитал ли он до конца хоть «Федру» Расина, ту «знаменитую «Федру»» — «Я не увижу знаменитой «Федры»...», — которую возвел в ранг одного из абсолютных ориентиров вкуса и нескончаемыми аллюзиями на которую в таком изобилии насыщал свои стихи и прозу? Ну, положим, именно этот вопрос основан на довольно простеньком недоразумении5 ; однако в целом осциллирование образа Мандельштама между фигурой умника-историософа, вложившего в хитрые шифры метафорики страх как много премудрости (например, у немецкого исследователя Р. Дутли), и фигурой идиотического невежды, не способного заинтересоваться ничем, кроме капризов сюрреалистического воображения, которое отдано в безраздельную власть самых случайных созвучий, — очень характерно.
Несогласуемые между собой, не сводимые воедино представления о Мандельштаме — словно проекции трехмерного тела на плоскость. (Еще нужно проверить, разумеется, насколько точно снята каждая из проекций, но это уже другой вопрос.) Чтобы получить три измерения, восставляют к прямой перпендикуляр, проводят через две прямые плоскость, а затем восставляют новый перпендикуляр, на сей раз — уже к плоскости. Поэзия, по Мандельштаму, — пространство даже не трехмерное, а четырехмерное. Можно понять, что поэт только и занимается восставлением «перпендикуляров», что он весь — поперек и наперекор самому же себе («себя губя, себе противореча...») и что это — не только от странностей психологии, от извилин биографии, но прежде всего потому, что иначе ему не освоить полноты измерений своего мира. По крайней мере, таков поэт мандельштамовского склада. У других поэтов, даже подлинных, мы найдем (с. 193) и однолинейную динамику порыва, и красоты, остающиеся на плоскости; у Мандельштама — не найдем или почти не найдем, и это сближает его с самыми большими из его собратьев, с его любимым Данте, с его Пушкиным и Тютчевым. А так как по извечному закону расплачивается за поэта человек, не приходится удивляться обилию «перпендикуляров» и «углов», разрывов и контрастов в человеческом бытии Мандельштама. Можно было бы понять, в чем дело, из поэзии самой по себе, даже не вспоминая о свойствах психофизического склада и, что важнее, о свойствах времени. Но те и другие свойства, конечно, присутствовали, чтобы осложнить жизнь человеку и чтобы сполна и без остатка, но преобразованными, преображенными, проясненными войти в поэзию.
* * *
Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.
О. М.
2/14 января 1891 года у Эмиля Вениаминовича и Флоры Осиповны Мандельштамов родился старший из трех сыновей — Осип. Вспомним: 1889 — год рождения Ахматовой, 1890 — Пастернака, 1892 — Цветаевой.
Со временем будет сказано:
Я рожден в ночь со второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.
А тогда девятнадцатый век шел к своему концу, и чего-чего — огня в нем не чувствовалось. «Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, — девяностые годы слагаются в (с. 194) моем представлении из картин, разорванных, но внутренно связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни» («Шум времени»). Тихое убожество и обреченная провинциальность — в поэзии выражением их была надсоновщина, в явление которой Мандельштам будет со временем вглядываться и вслушиваться уже с гигантской дистанции как в «загадку русской культуры», в «непонятый ее звук», но которая успела положить свою тень на его полудетские стихотворные опыты, решительно ничем не предвещавшие того, что будет писать юноша, не говоря уже о взрослом человеке: нормальные образцы народнической лиры.
Отец Мандельштама — странный, причудливый человек, погруженный в изобретение своей, как он выражался, «маленькой философии», тянувшийся к культуре, но не получивший образования; по выражению Н. Я. Мандельштам, он «был не фантазером, а фантастом, вернее фантасмагорией». Торговля кожей доставила ему возможность жить с семьей в Петербурге, но шла незадачливо — мешала сумасшедшинка. «У отца совсем не 6ыло языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал, Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно — по-русски или по-немецки». На это безумие с тихим испугом смотрела мать поэта — родственница известного историка литературы С. А. Венгерова, тип еврейки в русской интеллигенции. «Речь матери — ясная и звонкая без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, — но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков?»
(с. 195) От матери мальчик унаследовал, наряду с предрасположенностью к сердечным заболеваниям и музыкальностью, обостренное чувство звуков русского языка. От матери были русские книги в книжном шкафу, которому посвящена целая глава «Шума времени», и оторопь перед мозговым вывертом отца. Но свойство «косноязычия» воспринимается как свойство семьи в целом. Атмосфера родительского дома насыщена напряжением невыговоренного и невыговариваемого. «Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения — а между тем у нее было что сказать».
Здесь Мандельштам называет очень важный воспитующий фактор своих начальных лет. Возможно, и то и другое — и «было что сказать», и «косноязычие» — преувеличены восприятием отпрыска, призванного своим дарованием к борьбе за слово. Преувеличены — но не выдуманы. Ему достается странное, трудное наследство: не речь, а неутоленный порыв к речи, рвущийся через преграду безъязыкости. Речь необходимо завоевать, безостановочно расширяя границы выговариваемого, «прирожденную неловкость» нужно одолеть «врожденным ритмом». «Какая боль — искать потерянное слово...» Энергетический источник разогревания слова у Мандельштама — именно боль, неутоленность, воспаленная, не дающая покоя жажда. Три рода косноязычия сливаются в единстве биографического импульса. Это безъязыкость евреев, входящих в русскую речь извне, с усилием; недаром о матери сказано, что она до русской речи «дорвалась». Это общая безъязыкость надсоновской поры, когда старые возможности языка до предела исчерпаны, а к поискам новых никто покуда не догадывается приступить. И это, наконец, особая безъязыкость будущего поэта, которому отродясь заказано благополучное пользование готовым языком, потому что он призван к иному; безобразие гадкого утенка — будущего лебедя.
И над этой тройной невнятицей — видение властной, повелительной гармонии: петербургская архитектура (семья перебралась в Павловск, «российский полу-Версаль», затем в столицу). Мандельштам будет вспоминать: «Семи или восьми лет весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это (с. 196) нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным». Как в «Медном» всаднике» Пушкина, и в повседневном обиходе, в наивности детского восприятия архитектура была неотделима от военных имперских торжеств, так в жизнь Мандельштама вошла тема государственности, жесткой и стройной, тема Рима. «Не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким-то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом». Но, еще раз как в «Медном всаднике», бранно-архитектурное имперское великолепие требует противовеса, ему идет быть увиденным глазами человека, которому оно, собственно, не по чину, для которого оно — в чужом пиру похмелье. Державный блеск «очень плохо вязался с кухонным чадом среднемещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами». Между еврейскими истоками мальчика в Петербурге и тем, что развертывается перед глазами, — неразрешенный диссонанс, описываемый по аналогии с тютчевской антитезой дня как покрова и ночи как утаенной этим покровом бездны. «Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал».
Заметим, что в этом бегстве, намечающем важное для мандельштамовской поэзии противоположение родимого и страшного «утробного мира» — и «тоски по мировой культуре», продолжен порыв, гнавший в свое время отца «самоучкой в германский мир из талмудических дебрей» и приведший мать в российско-интеллигентскую среду, так что для нее и мир отца представлялся допотопным «хаосом». Порыв этот, насколько (с. 197) можно догадываться, определял воспитательную стратегию матери. «Насколько я понимаю, — замечает в своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам, — мать только и делала, что ограждала сыновей от отца. Она возила их на дачи и на курорты, выбирала для них гимназии — и очень умно, поскольку старшего отдала в Тенишевское, нанимала гувернанток, словом, старалась создать для них обычную обстановку интеллигентской семьи» («Вторая книга»).
Тенишевское коммерческое училище, учеником которого Осип Мандельштам был в 1900-1907 годах, — одна из лучших школ тогдашней России. Как в детстве — петербургская архитектура и петербургские парады, так в отрочестве — Тенишевское училище было образцом строгого и ясного рационального порядка, однако в ином варианте, менее праздничном, более интеллигентски-аскетическом, умно-стускленном. «А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых». Таков был фон двух формирующих переживаний: именно тогда в сознание отрока вошли, во-первых, революция, во-вторых, та стихия, которую Мандельштам назовет «литературной злостью».
Первая русская революция со всеми событиями, непосредственно ее подготовившими и непосредственно за ней последовавшими, для мандельштамовского поколения совпала со вступлением в жизнь, явилась как бы «инициацией»: вспомним поэму Пастернака «Девятьсот пятый год». Парадоксальным, но понятным образом революция была пережита в отроческих восторгах тенишевца как обновляющая метаморфоза все той же архитектурно-имперской «славы», которая «переехала», сменила свое место в жизни, оставив защитников режима и перейдя к его противникам. «Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. И тем и другим казалось невозможным жить несогретыми славой своего века, и (с. 198) те и другие считали невозможным дышать без доблести». Это — для чувства; для ума — выбор между социал-демократами и социалистами-революционерами. Марксизм импонировал мальчику Мандельштаму своей «архитектурностью» — как противоположность народнической «расплывчатости мироощущения»; однако под влиянием семья Синани (врач и душеприказчик Глеба Успенского Борис Наумович Синани, чей рано умерший сын был товарищем Мандельштама по Тенишевскому) будущий поэт сближался с эсерами. Весной 1907 года он произносит пламенную речь перед рабочими квартала по случаю событий, касавшихся Государственной думы; в самом конце года, уже окончив Тенишевское, он будет слушать на собрании русских политических эмигрантов в Париже речь Савинкова, поражая присутствующих своей впечатлительностью. «Главным оратором на собрании был Б. В. Савинков, — вспоминает М. М. Карпович. — Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал, стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад, — так что я даже боялся, как бы он не упал». Явственные отголоски настроений этого периода мы будем встречать и много, много позднее: непростая диалектика отношения Мандельштама к народническо-эсеровской традиции — важная составляющая его мировосприятия. Но тогда, на переломе от отрочества к юности, он оставил политику ради поэзии. В 1910 году его новый друг С. П. Каблуков, секретарь Санкт-Петербургского религиозно-философского общества и знаток православной церковной музыки, запишет о нем в дневнике: «Теперь стыдится своей прежней революционной деятельности и призванием своим считает поприще лирического поэта».
В мир русской поэтической традиции, как и в мир новой, то есть символистской, эстетической культуры, Мандельштама ввел тенишевский учитель словесности Владимир Васильевич Гиппиус, печатавшийся под псевдонимами «В. Бестужев» и «В. Нелединский», довольно слабый поэт, но человек острого и глубокого ума, одаренный критик, а если верить мандельштамовской (с. 199) характеристике — и прирожденный педагог, «формовщик душ». У него можно было учиться «литературной злости» — тонусу страстного и пристрастного отношения к поэтическому слову. «Начиная от Радищева и Новикова, у В.В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье». Даже если бы мы не знали юношеского письма, в котором ученик объясняется в любви-ненависти к своему учителю, по одной только заключительной главе «Шума времени», специально посвященной В. Гиппиусу, было бы ясно, как много значил в жизни Мандельштама этот человек.
После окончания Тенишевского училища происходят те немногие встречи Мандельштама с Западной Европой, эхо которых звучит в его поэзии вплоть до стихотворения «Я прошу как жалости и милости...», написанного в марте 1937 года: с октября 1907 по лето 1908 года он живет в Париже, после этого путешествует по Швейцарии с однодневным заездом в Геную; второе путешествие на Запад (два семестра в Гейдельбергском университете, посвященные романской филологии, с новыми поездками в Швейцарию и Италию) — с осени 1909 года по весну 1910 года; третье и последнее — в пригород Берлина Целендорф с 21 июля 1910 года по середину октября того же года. В сумму архитектурных впечатлений Мандельштама входит европейская готика, которой суждено было стать важнейшим значащим компонентом мандельштамовской образной системы (занятия старофранцузской поэзией в Гейдельберге подбирали к той же готике словесные, историко-литературные ассоциации).
В перерывах между поездками юноша посещает знаменитую «Башню» Вячеслава Иванова — средоточие таинств и торжеств символисткой культуры. Из Гейдельберга он посылает Иванову письма, странно сочетающие с ломкой мальчишеской заносчивостью тона неожиданную зрелость и уверенность мысли. Но еще больше зрелости и уверенности — в стихах восемнадцатилетнего Мандельштама, приложенных к письмам. Это уже настоящие стихи.
(с.200) В девятой, августовской книжке журнала «Аполлон» за 1910 год — первая публикация поэта: пять стихотворений.
Начинался новый период жизни Мандельштама.
***
Недоволен стою и тих
Я, создатель миров своих...
О.М.
Любите существование вещи больше
самой вещи и свое бытие больше самих
себя — вот высшая заповедь акмеизма.
О.М.
Уже в раннем творчестве Мандельштама очень внятно заявляет о себе до упрямства последовательная художническая воля, обходящаяся без демонстративного вызова, но тем более сосредоточенно и бесповоротно отклоняющая все возможности, кроме избираемой.
На поверхности это предстает поначалу как некий негативизм — или, если выражаться более высоким слогом, «апофатизм».
Еще К. Брауном и за ним Н. А. Струве отмечалось преизобилие у раннего Мандельштама отрицательных эпитетов: «небогатый», «небывалый», «невидимый», «невыразимый», «невысокий», «неживой», «нежилой», «недовольный», «незвучный», «неизбежный», «немолчный», «ненарушаемый», «неожиданный», «неостывающий», «нерешительный», «неторопливый», «неузнаваемый», «неунывающий», «неутоленный», «неутолимый» и т. д.; сюда же — «бесшумный», «безостановочный» и проч. И какую силу приобретают эти слова внутри стиха!
От неизбежного
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей...
(с. 201) Стихотворение часто начинается отрицанием: «Ни о чем не нужно говорить, // Ничему не следует учить»; «Она еще не родилась»; «Быть может, я тебе не нужен»; «Нет, не луна, а светлый циферблат»; «Я не поклонник радости предвзятой». Или отрицание, напротив, приходит в конце, как вывод из всего сказанного:
И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада...
Или оно логически обосновывает некое «да», покоящееся на «нет» как на фундаменте:
...Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал...
Или оно просто наполняет сердцевину стихотворения:
Никто тебя не проведет
По зеленеющим долинам,
И рокотаньем соловьиным
Никто тебя не позовет, -
Когда, закутанный плащом,
Не согревающим, но милым...
И над техникой, и над образностью господствует принцип аскетической сдержанности: сразу бросается в глаза, чего здесь нет, от чего стихотворение очищено, — отсутствие многозначительнее присутствия.
Нет звонких, редких, изысканно-богатых или экспериментально-небрежных рифм. Мандельштам никогда не будет рифмовать «страстотерпный — неисчерпный», как Вячеслав (с.202) Иванов; «палестр — де Местр», как Волошин; «дельта — кельта», как Бенедикт Лившиц; «беспокоиться — Троица», как Михаил Кузмин; «сковывающий — очаровывающий», как Брюсов; «баней — Албанией», как Маяковский; «лица — лопается», как Цветаева. У него преобладают рифмы «бедные», часто — глагольные или вообще грамматические, создающие ощущение простоты и прозрачности. Все сделано для того, чтобы рифма как таковая не становилась самостоятельным источником возбуждения, не застила собой чего-то иного.
В лексике ценится не столько богатство, сколько жесткий отбор. Мандельштам избегает слов, чересчур бросающихся в глаза: у него нет ни разгула изысканных архаизмов, как у Вячеслава Иванова; не нагнетания вульгаризмов, как у Маяковского; не изобилия неологизмов, как у Цветаевой и особенно у Хлебникова; ни наплыва бытовых оборотов и словечек, как у Кузмина и Пастернака. Очень редки в ранних мандельштамовских стихах имена собственные. Потом их станет больше, появятся строки, целиком из них состоящие («Россия, Лета, Лорелея, Ленор, Соломинка, Лигейа, Серафита); но неизменным принципом останется исключительность, выделенность каждого имени собственного, а потому как бы затрудненность его введения — «Легче камень поднять, чем имя его повторить», — глубоко коренящаяся в том, что можно было бы назвать поэтической верой Мандельштама. Любое имя как бы причастно у него библейскому статусу имени Божия, которое нельзя употреблять всуе. Установкой на субстанциальный характер акта именования исключено расточительное употребление «экзотических» имен для декоративных целей, как это было обычным у Брюсова или Волошина. Чисто практически это означает отказ еще от одной возможности сделать лексику пряной или пестрой. И здесь строгая прозрачность, предстающая внешне как скудость или скупость, предпочтена «колерам».
Этому соответствует образный строй. В ранних стихах Мандельштама нет ни громких звуков, ни яркого света: звук у него «осторожный и глухой» и даже полдень — «матовый». Нет чувства, на которое не ложилась бы тень противочувствия. Вдохновение (с. 203) ни на минуту не забывает о своей временности, прерывности: ритмический экстаз — «мгновенный», это «только случай, неожиданный Аквилон», который уйдет и «совсем не вернется» или «вернется совсем иной». Восторженность ограждена и уравновешена самоограничением, трезвым различением между своим домашним затвором — и «эфирными лирами» нечеловеческой бездны космоса:
Есть целомудренные чары -
Высокий лад, глубокий мир,
Далеко от эфирных лир
Мной установленные лары.
У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.
Недаром замечательный немецкоязычный поэт Пауль Целан, хорошо знавший стихи Мандельштама, много их переводивший, в собственном стихотворении связал дух мандельштамовской поэзии с идеей «конечного»: Das hOrt ich dich, Endlichkeit, singen// da sah ich dich, Mandelstam [...] Das Endliche sang, das Stete...» («Я слышал, как поешь ты, о конечное, я видел тебя, Мандельштам [...] Пело то, что конечно, то, что пребывает»). Подумаем о том, как расходились пути поэтов. Цветаева шла к тому, чтобы сделать «без-мерность» одновременно темой и принципом своего творчества. Путь Мандельштама к бесконечному — противоположный: через принятие всерьез конечного как конечного, через твердое полагание некой онтологической границы.
Стускленный, «матовый» колорит ранней мандельштамовской поэзии не наделен никакой специфической многозначительностью во вкусе символизма или его эпигонов — это не «лиловые миры» Блока и еще того менее «некто в сером» из ненавистного Мандельштаму Леонида Андреева. Но дело здесь обстоит вдвойне непросто, и оба осложняющих фактора — черты нового сравнительно с символистской эпохой.
Во-первых, колорит этот решительно не поддается интерпретации в терминах, носящих оценочный характер, более того, (с. 204) делает любую попытку однозначной интерпретации «со знаком плюс» или «со знаком минус» просто абсурдной. Истолковать его только как выражение мудрости и целомудрия («Есть целомудренные чары») — чересчур благостно; увидеть в нем только знак уныния, безлюбия, юношеской меланхолии («О позволь мне быть также туманным») — уж слишком бедно. То есть на поверхности одно как будто сменяется другим — в одних стихотворениях речь идет о «высоком ладе», а в других — о «сумрачной жизни»; но внимательный читатель скоро заметит, что на глубине истинным предметом остается одна и та же отрешенность, которую было бы крайне неосторожно отождествить с тем или иным ее аспектом — утешительным или неутешительным. Притом отметим, что если тема «высокого лада» не имеет частого у символистов проповеднического, учительного звучания («Ничему не следует учить»), то тема «сумрачной жизни» не выливается в сарказмы, не приводит ни к обвинениям Бога и мира, ни к самообвинениям или, напротив, самооправданиям. Никаких порывов по примеру персонажа Достоевского «возвратить билет» Богу. Никаких поползновений объявить войну Солнцу, как в стихах Федора Сологуба, который до известной меры являлся для раннего Мандельштама образцом. В семнадцать лет поэт скажет, что «ничего не приемлет» от жизни, через два года поправит себя: «Твой мир болезненный и странный // Я принимаю, пустота!» — и уж после никаких разговоров ни о «приятии», ни о «неприятии» мира, столь характерных для символистской и послесимволистской поры, нет как нет. Нет и попыток отделить себя самого от «сумрачной жизни», от болезненного и странного мира пустоты, укоризненно противопоставить себя «всему кругом», как сказано в заглавии одного стихотворения 3. Гиппиус, — и поэт такой же, как все и всё: самое его одиночество — не какой-то удел избранника, а попросту норма в мире, «где один к одному одинок». При этом экстатическое слияние со всем сущим как патетический жест или особо формулируемая тема — будь то на ноте Уитмена, подхваченной у нас Маяковским, будь то в духе программы соборности, теоретически сформулированной Вяч. Ивановым, — абсолютно исключено. (с. 205) Лишь на самом исходе своего пути Мандельштам скажет себе: «Всех живущих прижизненный друг», — но это будет честно оплаченный итог, вывод из всего сказанного, сделанного и выстраданного, а не исходная презумпция «радости предвзятой», от которой поэт отказался в самом начале и навсегда. Факт собственной единоприродности с невнятицей «тусклого пятна» сырой и серой природы, с «мировой туманной болью», с жизнью разобщенных людей не внушает молодому Мандельштаму энтузиазма, он может только сказать этой безликой стихии: «О, позволь мне быть также туманным // И тебя не любить мне позволь», — но это не гнев, которого было предостаточно у той же Гиппиус и которым будут звенеть стихи зрелой Цветаевой; человеку не за что любить аморфную тусклость, которой так много в мире и в людях, но ее же он ощущает и внутри себя, так что тяжбу вести не с кем. Ситуация самого поэта перед лицом мира не описывается ни в радужных тонах, как у Бальмонта, но также порой, скажем, у Кузмина («Новые дороги, всегда весенние, чаются...» и т. п.), ни в мрачных тонах, как отчасти у Блока («Молчите, проклятые книги...») и стольких других; поэт не лучше и не хуже других людей (в отличие от «литератора», обязанного быть «выше» общества, как Мандельштам заметит в статье 1913 года «О собеседнике»), он относится к самому себе просто — какой есть. «Какая есть. Желаю вам другую», — скажет через десятилетия Ахматова; но и в этих словах есть педалирование темы, у Мандельштама отсутствующее. Он даже не скажет о себе «какой есть», настолько это самоочевидно. Вибрация личного самоощущения, со всеми муками «разночинской» неловкости, со всеми эксцессами самоутверждения и стыда, обиды и неуверенности, которая была весьма свойственна личной психологии Мандельштама как человека и которая нашла впоследствии выражение в прозе, например в «Египетской марке», — с самого начала и довольно последовательно изгнана из мандельштамовских стихов. «Я забыл ненужное «я»».
Во-вторых, «матовые» тона, приглушенные звуки, отказ от мифологизации места поэта среди людей — все это странно соединяется с постоянной, равномерной торжественностью тона. (с.206) Торжественность раннего Мандельштама, не нуждающаяся в пафосе, в восклицательных знаках и высоких материях, почти что вовсе безразличная к теме и предмету, в соединении с медлительным ритмом стиха вызывает ощущение рассеянного взгляда, смотрящего сквозь вещи. С точки зрения поэтики XIX века, также и в ее символистской переработке, эта беспредметная торжественность вызывает мысль о пародии; говорить выспренно о чем попало — самый избитый прием пародистов. Но у Мандельштама равномерной приподнятости отвечает столь же равномерная серьезность, изливающаяся на все предметы без различия; в некоторых стихотворениях 1913-1914 годов («Старик», «Кинематограф», «Американка», «Мороженно! Солнце.
Воздушный бисквит...», отчасти «Аббат») серьезность эта смягчена или модифицирована выведенным на поверхность юмором («И боги не ведают — что он возьмет: // Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?») — недаром большая их часть появлялась в «Новом Сатириконе»; позднее подобные интонации уходят. Вообще говоря, из свидетельств современников, а также из шуточных стихотворений, не введенных поэтом в канонический корпус его сборников, мы знаем, что Мандельштам был наделен исключительно высокой степенью чувства смешного; как это чувство соотносится с его серьезностью? Здесь не место для подробной характеристики мандельштамовского юмора; ограничимся двумя отрицательными констатациями — во-первых, это не традиционный юмор, по конвенциональной схеме выделяющий «комические» предметы среди некомических; во-вторых, это не специфическая ирония во вкусе немецких романтиков и особенно Гейне6. Парадокс: Блок, чья серьезность была несравнимо более наивной, подчас даже тяжеловесной, дезавуировал (с. 207) ее, вводя автопародийную иронию «Балаганчика»; напротив, серьезность Мандельштама, которая, пожалуй, с блоковской точки зрения и серьезной-то не была — недаром у Блока нашлось для Мандельштама лишь слово «артист», — остается недезавуированной. По сути дела, взгляд Мандельштама, отрешенно покоящийся на мальчике перед мороженым, столь же серьезен, как тогда, когда переходит на какое-нибудь архитектурное чудо вроде Нотр-Дам или Адмиралтейства или на небеса и землю. Но если торжественность, «одичность» тона не мотивирована ни по старинке — выбором «высокого» предмета, ни на более новый, символистский манер — патетическим мифом о поэте и квазисакральным статусом поэзии, возникает законный вопрос: чем же она мотивирована? Раз ее предмет — не качества вещей и не ранг вещей, очевидно, это самое бытие вещей. Стускленность колорита и служит тому, чтобы переадресовать интонационную важность от сущего — к самому бытию, «ничем не прикрашенному», как скажет Мандельштам в статье «Утро акмеизма». Нам легче понять такое движение поэтической мысли, чем современникам Мандельштама: между его временем и нашим — такое явление, как философия Хайдеггера, только и старавшегося о том, чтобы das Seiende — сущее — не закрывало собою das Sein — бытие. Но ведь Мандельштам-то писал: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя» — еще в 10-е годы, то есть лет за двадцать до того, как Хайдеггер только начал приходить к своим темам; а тогда о нем не слыхивали даже немецкие философы, не говоря о русских поэтах. Интересно, конечно, что Мандельштам, толком почти и не читавший философов, за вычетом Владимира Соловьева, Бергсона и Флоренского7, так близко подошел к важнейшей теме западной философии 30-50-х годов. Но в пределах поэзии как таковой применение торжественной интонации к «тусклым пятнам», вовсе не демонизируемым, как «пошлость таинственная» у Блока, не вводимым ни в какой мистериальный сюжет, а данным в тождестве себе, — это очень мощное (с. 208) разрушение поэтики символизма. Последняя не могла ужиться с перефункционированием ее же собственной «жреческой» установки, и это тем более, что такой сдвиг функций не уходит в приготовленные заранее каналы иронии или пародии, не дает — при адекватном восприятии — комической разрядки.
Говорят, будто смех убивает; на самом деле убивает совсем иное — серьезность, с которой носитель инициативы поворачивается к старому спиной, чтобы начать, не оглядываясь, новый путь. Естественно, что современники некоторое время понимали особенность поэзии Мандельштама как утрировку той торжественности, к которой их приучил символизм (поздний отголосок этого первого впечатления можно встретить, например, в неглупой и задорной рецензии С. Боброва — «Печать и революция», 1923, кн. 4). Это было одновременно и недоразумением, и разумением, превратным выражением истинного положения дел. Чувство меры, как его понимает самозамкнутое самосознание литературной эпохи, — это чувство, подсказывающее, между прочим, где надо остановиться, чтобы не нарушить прежнего статуса того или иного приема. Тривиальное нарушение чувства меры нарушает прежний статус, не давая нового. Но содержательная «утрировка» отменяет прежний статус, чтобы дать новый статус и новый смысл.
Необходимо добавить, что парадоксальное соединение «одичности» и «стускленного» колорита, будучи разрывом с инерцией символистской линии, одновременно может до известной меры рассматриваться как возврат на новом уровне к одному из истоков символизма — к наивно-важной, негромко-угловатой рассудительности гениального юноши Ивана Коневского, утонувшего двадцатитрехлетним в 1901 году. Мандельштам не забывал об этом: отголоски поэзии Коневского займут важное место в мандельштамовских стихах разного времени, а прямые ее упоминания — в прозе.
Осталось сделать три замечания, касающихся мира раннего Мандельштама и тех его свойств, которые были только что описаны.
Начнем с того, что стихи 1908-1910 годов представляют собой едва ли не уникальное явление во всей истории мировой (с. 209) поэзии: очень трудно отыскать где-нибудь еще сочетание незрелой психологии юноши, чуть ли не подростка, с такой совершенной зрелостью интеллектуального наблюдения и поэтического описания именно этой психологии.
Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.
И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.
Я счастлив жестокой обидою
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.
Никакой это не декаданс — все мальчики во все времена чувствовали, чувствуют и будут чувствовать нечто подобное. Боль адаптации к жизни взрослых, а главное — особенно остро ощущаемая прерывность душевной жизни, несбалансированные перепады между восторгом и унынием, между чувственностью и брезгливостью, между тягой к еще не обретенному «моему ты» (как Мандельштам будет называть свою жену) и странной, словно бы нечеловеческой холодностью, когда межличностные связи еще не налажены: все это для мальчика — не болезнь, а норма, однако воспринимается как болезнь и потому замалчивается. Скрытная застенчивость мальчика, а затем и ностальгическая сентиментальность воспоминаний взрослого о собственных ранних годах в своем сотрудничестве создают условную, приукрашенно бодрую картину отрочества и юности, усваиваемую и закрепляемую обыденным сознанием. Притом обычно у мальчика, даже если он — поэт в будущем, покамест нет еще слов, чтобы с достаточной точностью и силой описать психологию своего возраста. Но недостаток словесного умения — не единственная (с. 210) помеха. Даже в редких случаях необычайно ранней реализации поэтического дарования механизмы, называемые у психологов компенсаторными, обычно направляют пробудившуюся силу слова на то, чтобы маскировать пугающие зияния и туманы собственной душевной жизни либо готовой образностью наследуемой культуры, что по большей части можно видеть даже у раннего Пушкина, либо, что более обычно, безудержным романтизированием своего «я» (юный Лермонтов, юный Блок). Более реалистический подход к психологии подростка у Рембо окрашен в слишком черные тона — опять-таки романтические, — слишком демонизирован, чтобы дойти до подлинной объективации. Короче говоря, обычно один из самых необходимых признаков юношеской души, все равно, у самых обычных людей или у самых больших поэтов, — это неспособность наблюдать себя самое без идеализации и самоочернения, без сарказмов и самооправданий, и адекватно дать себя в слове; приобретая способность объективации, душа как раз и перестает быть юношеской. Здесь Мандельштам — редчайшее исключение, обусловленное не только силой таланта, но особенностью становления его человеческой и поэтической личности. Произошел какой-то сдвиг сроков: хотя в нем очень долго держался «мальчик», по-отрочески скрытный, по-отрочески общительный, поражавший современников импульсивностью поведения и вызывавший у них улыбку детской страстью к сладостям, наряду с этим он же необычно рано созрел как «муж», способный смотреть на себя, «мальчика», со стороны и описывать душу этого мальчика точно и здраво, в стихах, по-своему вполне совершенных. Не будем повторять общих мест — дело не в том, что поэт вообще чаще всего бывает, с одной стороны, «наделен каким-то вечным детством», как скажет Ахматова о Пастернаке, а с другой стороны, взрослее взрослых, ибо смотрит на вещи неожиданно смело и проницательно. Нас интересует не «поэт вообще», а неповторимый случай Мандельштама, который даже в плане биографическом не с чем сравнить. Но куда больше занимает нас конструктивное значение, определенное столь трезво трактуемой теме перепадов юношеской психологии в общем смысловом контексте (.с 211) ранних мандельштамовских стихов. Контексте, если угодно, полемическом.
Как все мы знаем, традиционной лирике в общем свойственно игнорировать прерывность душевной жизни человека, работая с фикцией беспримесных эмоциональных состояний, якобы наполняющих собою все психофизическое бытие личности и всю вечность лирического мгновения. Фикция эта сохраняла все свои права и тогда, когда эмоциональное состояние описывалось как противоречивое (еще у Катулла — «ненавижу и люблю»); просто самодержавный статус доминанты передавался противоречию. Драма и роман давно отошли от такой практики: Пушкин хвалил Шекспира за то, что у последнего — в противоположность Мольеру — поведение персонажа несводимо к доминанте. С лирическими жанрами дело обстояло сложнее. Сначала упомянутую фикцию поддерживала откровенная условность риторических правил (скажем, меланхолический Батюшков принужден был являть себя жизнелюбивым и влюбчивым в стихах из анакреонтического рода — «Эвоэ! и неги глас»); романтизм потеснил правила, но поставил на место игровой условности, по-своему честной, спонтанность страсти. Подумать только — заданную, требуемую, принудительную спонтанность, спонтанность как императив!
Старая система в течение эпох сохраняла пристойную дистанцию между лирикой и психологией; великое притязание романтической и послеромантической культуры — сломать барьер и непосредственно ввести в лирику психологию. Но психология эта оказывалась в очень важном пункте неточной. Господствовавший в XIX веке тип лиризма менее верен психологии, чем древние библейские псалмы, с их немотивированными и оттого особенно убедительными переходами-перепадами от экзальтации к прострации и обратно, или чем оды Горация, где «маятник лирического движения», как блестяще показал М. Л. Гаспаров8, колеблется между двумя состояниями, а под конец замирает в равноудаленной от них точке. Над лиризмом XIX века господствует представление о длящемся эмоциональном (с. 212) порыве, так сказать, с правильными контурами, с красивой линией подъема или нисхождения, без риска сбоев. Упоминавшаяся выше ирония в духе Гейне сама по себе не только не разрушала эту лирическую псевдопсихологию, но, напротив, помогала консервировать ее, давая внутрилитературное разрешение всем несоответствиям между ней и конкретным человеческим опытом. И с этой точки зрения психология юноши, какова она есть на самом деле, со всеми пустотами и проблемами, со всеми фантомами эмоций, остающихся в возможности, ибо не получивших для себя предмета, — особенно резкий пример тех черт общечеловеческой психологии, которую лиризм XIX века не сумел освоить. Ввести юношескую психологию как тему — значило разорвать замкнутый круг.
Проблема, о которой мы говорим, была обострена практикой русских неоромантических течений — символизма и отчасти футуризма. И тому и другому, как известно, противопоставил себя акмеизм, впервые декларативно провозглашенный Гумилевым и Городецким в начале 1912 года. Здесь не место останавливаться на деятельности «Цеха поэтов», выяснять нюансы, отделявшие акмеизм как таковой от родственного ему «кларизма» Михаила Кузмина, или, скажем, удивляться, что Мандельштам оказался в одной литературной группировке с Городецким, еще недавно — неоязыческим мифотворцем в арьергарде Вяч. Иванова. «Древний хаос потревожим. // Мы ведь можем, можем, можем!» — восклицал Городецкий, и нет, кажется, ничего более далекого от внутренней музыки раннего Мандельштама, чем этот бодрый напор, да еще с метафизической претензией. Но дело не в таких частностях: формулировки литературных манифестов, персональный состав группировок — всегда смесь смысла и бессмыслицы, то есть случайности, что не снимает с нас задачи искать за случайностями смысл. Для самого Мандельштама было очень важно, что это означало в перспективе его поэтического пути.
Не стоит соблазняться расхожим представлением, подсказываемым самими акмеистическими манифестами, будто суть акмеизма — в «вещности», понимаемой как чувственная (с. 213) пластическая наглядность и конкретность реалий. Применительно к Мандельштаму такое представление явно не работает. Когда он хочет передать вещь не то что зрительно, а на ощупь, он достигает цели одним эпитетом («А в эластичном сумраке кареты...»); но выразительность деталей уравновешена их скупостью, их сознательной и последовательной разреженностью, а конкретное увидено настолько издали, проходящим сквозь него взглядом, что становится абстрактнее всех абстракций. В этом отношении Мандельштам — антипод Пастернака. Если мы вспомним аристотелевское деление признаков вещи на сущностные и случайные («субстанциальные» и «акцидентальные»), то поэзия Пастернака — убежденное уравнивание случайного с сущностным и постольку апофеоз конкретности; у него «чем случайней, тем вернее», и даже Бог — «всесильный Бог деталей», а поэзия — «лето, с местом в третьем классе»; напротив, поэзия Мандельштама идет путем поступательного очищения субстанции от случайных признаков, продолжая в этом отношении импульс символизма, хотя сильно его модифицируя. Пастернак живет среди вещей своего века, беря их совершенно всерьез — чего стоят заоконные «стаканчики купороса», за которыми «ничего не бывало и нет»! — он братается с вещами, упраздняет дистанцию между бытом и бытием, коль скоро «на свете ни праха нет без пятнышка родства»; не просто обиход, но, что особенно трудно для поэзии, интеллигентский, например консерваторский, обиход, до «ковровой дорожки» и даже «московских светил» включительно, без всякого препятствия становится у него частью лирической темы. Если бы «вещность» действительно была критерием акмеистичности, Пастернак, никогда ничего общего с акмеизмом не имевший, оказался бы акмеистичнее даже Ахматовой, не говоря уже о Мандельштаме9 . Воздух у него прямо-таки густ от вещности — а у Мандельштама (с. 214) прозрачен, по-своему не меньше, чем, например, у Вячеслава Иванова10 (или, на другой манер, у поздней Цветаевой, в определенных отношениях мандельштамовского антипода). На вещи своего века Мандельштам смотрит, как только что сказано, с огромной дистанции; это для него как будто озадачивающие курьезы, чья конкретность до конца растворена в интеллектуальной эмоции удивления, настолько равномерного, что кажущегося спокойным. То же удивление обращено на его собственную личность, на себя как субъект биографии: «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» Взгляд сосредоточен не на вещности вещи, а, как мы отмечали, на ее бытии — и еще на том, что у философа Гуссерля (которого Мандельштам, по-видимому, не знал) называется «интенциональностью»: на природе самого познавательного отношения к вещи. И при этом поэт обходится, в отличие от Андрея Белого, без философского жаргона; в отличие от символистов вообще — без выведения философского плана на поверхность; в отличие от Цветаевой — без превращения своей чуждости вещам в специально заявленную тему. Для него это не тема, а ровный фон для всех тем. Необходимо перечувствовать в ранних стихах Мандельштама то грустный, то позабавленный, но всегда отчужденный взгляд на реалии богемного или буржуазного быта («Золотой» — второстепенное по качеству, но очень характерное по интонации стихотворение) (с. 215) хотя бы для того, чтобы не поддаваться тривиально «советскому» или тривиально «антисоветскому» истолкованию такого же подхода к приметам «эпохи Москвошвея» в его поздних стихах. Вещи менялись, и самочувствие поэта в разные периоды его жизни тоже менялось; но прослеживаемая на глубине структура отношения к вещи оставалась неизменной от начала до конца.
Вернемся, однако, к проблеме акмеистического бунта против символизма. Если суть — не в вещности, не в наглядности и выпуклости, то в чем? Пытаясь ответить на этот вопрос в своей «Второй книге», Н. Я. Мандельштам рисует примерно следующую картину. Главы символистского движения, прежде всего Вяч. Иванов и Брюсов, «соблазнители» и «ловцы душ», разрушили или подменили христианскую моральную традицию, увели от вечных ценностей и ясных критериев, явившись предтечами грядущего одичания. Переосмысленный Вяч. Ивановым идеал «соборности» вел к отказу от личного начала, его же мечта об «орхестрах и фимелах» всенародного действа материализовалась чуть ли не в лагерной самодеятельности и прочая. Дело символистов было в более брутальных формах продолжено футуристами, получившими от своих предшественников благословение. Однако в защиту отринутого «христианского просвещения», как некие рыцари, выступили акмеисты. Поскольку ни Зенкевич, ни Нарбут, не говоря уже о Городецком, в рыцари тем более христианские, не годятся, рыцарей оказывается трое: Гумилев, Ахматова, Мандельштам. Что сказать о такой концепции? В том виде, в котором она высказана у вдовы поэта, она представляет собой просто миф, имеющий, как всякий миф, определенное отношение к действительности — но весьма специфическое. По частностям можно много возражать11, но это едва ли было бы адекватным подходом к мифу.
Попробуем лучше перевести его на более рациональный язык.
(с. 216) Если существует общий знаменатель, под который можно нe без основания подвести и символизм, и футуризм, и общественную реальность послереволюционной России, то знаменателем этим будет умонастроение утопии в самых различных вариантах — философско-антропологическом, этическом, эстетическом, лингвистическом, политическом. Подчеркиваем, что речь идет не о социальной утопии как жанре интеллектуальной деятельности, а именно об умонастроении, об атмосфере. «Человек есть нечто, что следует преодолеть». Вместо человека — сверхчеловек: всепроникающее влияние Ницше, прослеживаемое от Вяч. Иванова до Максима Горького, да ведь и Маяковский неспроста назвал себя «крикогубым Заратустрой» («крушение гуманизма» по Блоку относится, конечно, туда же). Вместо искусства — сверхискусство: для теории «теургии» это очевидно, однако и заостренное против этой теории акцентирование прав артистизма, скажем у Брюсова, само собой переходило в абсолютизацию артистизма; уж если «все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов», значит, стихи — уже не просто стихи, не веселое пушкинское «для звуков жизни не щадить», а предмет квазирелигиозного культа. Но ведь и непосредственное слияние искусства с жизнью на улицах и площадях, в неожиданном согласии предсказанное и Вяч. Ивановым и Маяковским и отчасти осуществленное в массовых действах первой послереволюционной поры, в экспериментах «жизнестроителей», — тоже вариант сверхискусства. Соответственно вместо языка — сверхъязык: если жреческая речь Вяч. Иванова отчасти приближалась к сфере лексической утопии, то «заумь» футуристов уже всецело принадлежала этой сфере... И здесь мы вправе сказать, что если понятие акмеизма более или менее сводится к понятию творчества двух столь несхожих поэтов, как ранняя Ахматова и ранний Мандельштам12, то акмеизм действительно был вызовом духу (с. 217) времени как духу утопии. Ахматова и Мандельштам подхватили импульс антиутопизма, среди символистского поколения воплощенный с достаточной чистотой, пожалуй, в одном Иннокентии Анненском. Недаром имя Анненского выделялось акмеистами с полемической эмфазой.
Вот, стало быть, исторический контекст упорства, с которым ранний Мандельштам отказывается от «радости предвзятой», но и от столь же предвзятой трагической позы, вслед за Анненским настаивая на прерывности эмоциональной жизни души, на ее неожиданной хрупкости, на законе перепадов и противочувствий. В споре между утопией и антиутопизмом вопрос был поставлен едва ли не в первую очередь о поэте. Если в свое время Пушкин с несравненной правдивостью поведал, что все бытие поэта — чередование взлетов вдохновения с провалами и пустотами, когда забытый Аполлоном служитель, быть может, ничтожнее всех «меж детей ничтожных мира», то эпоха утопий восстановила и возвела в абсолют старый романтический принцип, согласно которому поэт обязан не выходить из экстаза двадцать четыре часа в сутки, на глазах у всех горя и сгорая, как неугасимая свеча. «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературной биографии — от личной [...] От каждого, вступавшего в орден ... требовалось лишь непрестанное горение ... безразлично, во имя чего» (В. Ходасевич)13. «Гори! « — действительно ключевое слово, объединяющее символизм, футуризм и утопически понятый восторг революции. «Распростри свое объятье — //И гори, гори, гори!» — твердит Вяч. Иванов человеку. «Люблю тебя за то, что ты горишь», — обращается он же к Бальмонту. Блок цитирует Фета: «Там человек сгорел», — и говорит о «гибельном пожаре» жизни за «бледными заревами» искусства. Маяковский стоит на той же линии, (с. 218) когда диагностирует у себя «пожар сердца». «Рыдай, буревая стихия, // В столбах громового огня! // Россия, Россия, Россия — // Безумствуй, сжигая меня!» — обращается Андрей Белый к стране революции. Достаточно вспомнить трагический облик Блока, муку Андрея Белого, гибельное юродство Хлебникова, самоубийственное тореадорство Маяковского, чтобы почувствовать: принцип непрестанного горения — не поза, а именно утопия, в жертву которой поэты приносили свои нервы и свои души (последней жертвой на этом алтаре была, конечно, Цветаева, преобразовавшая поэтическую систему, но оставившая без изменения личностную установку символизма14. Но у Ходасевича недаром добавлено: гореть — «безразлично, во имя чего». На описанном пути невозможно было избежать имморализма. Если налицо обязанность — гореть каждое мгновение, вопрос о духовном качестве огня, о его небесной или гееннской природе сам собой отпадает. Как сказано у Волошина: «Беги не зла, а только угасанья; // И грех, и страсть — цветенье, а не зло», Брюсов еще раньше выразил готовность восславить — «и Господа, и дьявола». На стадии футуризма выясняется, что не только «грех и страсть», не только трагически окрашенная дьяблерия, но и вульгарность как таковая может стать предметом утопической абсолютизации: эгофутурист Игорь Северянин взял на себя доказать это со всей необходимой основательностью. Не забудем, что его восторженно приветствовал Федор Сологуб и вполне всерьез принял Блок.
Символизм немыслим без своей религиозной претензии. Символисты легко приступали к штурму верховных высот мистического восхождения; «новое религиозное сознание» было лозунгом их культуры. Старые критерии для отличения христианского от антихристианского или хотя бы религиозного от (с. 219) антирелигиозного отменялись, новых не давалось, кроме все того же: «гори!» Поэтому для символизма в некотором смысле все — религия, нет ничего, что не было бы религией (то есть, выражаясь более трезво, нет ничего, что не поддавалось бы религиозной стилизации по некоторым правилам игры). Эротический экстаз можно было отождествить с мистическим («путь в Дамаск»), а богоборчество включить в систему религиозной топики. Поэтому ни антирелигиозность раннего Маяковского, ни, так сказать, парарелигиозность Хлебникова в конечном счете не нарушали правил игры. Поэтому же Маяковскому было куда легче отказаться от Бога, чем от того типа широковещательности и метафизической заносчивости, который повелительно требует библейских оборотов, разумеется выворачиваемых наизнанку. Здесь пример подал первоучитель эпохи — Фридрих Ницше, клявший христианство, но не устававший имитировать новозаветную стилистику. Но игры в богоборчество поражают наш взгляд меньше, чем религиозная неразборчивость людей религиозных: даже Вяч. Иванов — тот из символистов, чье отношение к богословской традиции было едва ли не самым органичным, — в 1909 году был способен рекомендовать В. Бородаевскому в качестве поучительного примера «религиозной гармонии» и «непрестанной молитвы»... Михаила Кузмина. Настолько двусмысленными стали религиозные понятия, одновременно эмансипированные от своего «канонического» смысла и не теряющие неких притязаний на этот смысл.
Ахматову и Мандельштама, в меньшей степени Гумилева объединяет протест против инфляции священных слов. Мандельштам скажет: «...русский символизм так много и громко кричал о «несказанном», что это «несказанное» пошло по рукам, как бумажные деньги». У акмеистов святость сакрального слова восстанавливается через подчеркивание его запретности: его произнесение грозит непредсказуемыми последствиями. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно...» У Гумилева мотив запрета на слово дан еще в тонах мифологизирующей стилизации:
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
(с. 220) Это уже много серьезнее, когда Ахматова предупреждает:
О, есть неповторимые слова;
Кто их сказал — истратил слишком много.
Неистощима только синева
Небесная и милосердье Бога.
Но особое место в разработке мотива принадлежит странному мандельштамовскому стихотворению 1912 года:
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
»Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...
Перед нами не «религиозное» стихотворение — ни по традиционной мерке, ни по расширительным критериям символистской поры. В нем нет ни мифологических образов, ни метафизических абстракций. У него есть сюжет, и сюжет этот очень прост. Обстановка — одинокая прогулка (годом раньше: «Легкий крест одиноких прогулок»). Зачин описывает негативно характеризуемое психологическое состояние, какие так часто служат у раннего Мандельштама исходной точкой: неназванный образ мучает своим отсутствием, своей неосязаемостью, он забыт, утрачен. «Образ твой» — такие слова могли бы составлять обычное до банальности, как в романсе, начало стихотворения о любви; но нас ждет совсем иное. Вполне возможно, хотя совершенно не важно, что образ — женский. Во всяком случае, в нем самом не предполагается ничего сакрального, иначе «твой» имело бы написание с большой буквы. Но по решающему негативному признаку — по признаку недоступности для воображения — он (с. 221) сопоставим с образом Бога; это как бы образ образа Бога. Одна неназванность — зеркало другой неназванности; и соответствие тому и другому — «туман», симметрически упоминаемый во 2-й строке от начала и во 2-й строке от конца: характерная тусклость мандельштамовского ландшафта. Но вот происходит катастрофа: в напряжении поисков утраченного образа, в оторопи, «по ошибке» человек восклицает: «Господи!» В русском разговорном обиходе это слово — не больше чем междометие. Но одновременно именно оно — субститут самого главного, неизрекаемого библейского имени Бога, так называемого Тетраграмматона. «»Господи!» — сказал я по ошибке, // Сам того не думая сказать» — это две строки, легко приближающиеся в читательском восприятии к грани комического: тем резче действует неожиданная серьезность, к которой принуждает читателя поэт. Имя Божие оказывается реальным, живым, как птица, — именно в своей вещественности, в соединении с дыханием говорящего. Но это причина не для умиления и не для эйфории, а для страха: неизреченного не надо было изрекать. Бездумным, случайным выговариванием Имени человек наносит себе урон и убыль: Имя вылетает, улетает, опыт его реальности — одновременно опыт безвозвратного прощания с ним. Этот вывод подсказан и скреплен последней строкой, тяжкая плотность которой возникает из характерного для техники Мандельштама наложения двух семантических характеристик на одно слово — метафорическая «клетка», из которой вылетает «птица», и «клетка» из словосочетания «грудная клетка».
Отталкивание от облегченного отношения к религиозным темам заставляет Мандельштама и в других стихотворениях подчеркивать эмоции страха. Святость святыни реальна постольку, поскольку опасна, и оторопь перед ней предстает неприкрашенной.
И слова евангельской латыни
Прозвучали, как морской прибой,
И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой.
Нет, не парус, распятый и серый,
С неизбежностью меня влечет -
Страшен мне «подводный камень веры»,
Роковой ее круговорот!
(с.222) «Подводный камень веры», как и многое другое у Мандельштама, — из любимого им Тютчева, из стихов о Наполеоне: «Он гордо плыл, презритель волн, // Но о подводный веры камень // В щепы разбился утлый челн». Вера — «подводный» камень, она связана с пучиной, с непроницаемой тайной глубоких вод. Но у Тютчева она угрожает чужому, другому, врагу — самоутверждению Наполеона. Мандельштам переадресовывает угрозу своему собственному «я».
Характерно, что в свой первый сборник стихов «Камень», вышедший первым изданием в 1913 году и следующим, расширенным, в 1915 году, поэт остерегся включить это стихотворение, как и несколько других, отмеченных прямой связью с религиозной темой, в том числе и столь совершенное, как «Неумолимые слова...» — двенадцать строк, дающих классически строгий образ Распятия. Свирепая, бешеная стыдливость возбраняла ему обнажать перед читателем свои переживания подобного рода; религиозная топика допускается у него при условии объективации, вывода из личной эмоциональной сферы. Злейший враг, которому объявлена война не на жизнь, а на смерть, — нескромность мистического чувства. В подходе к сакральному поэт может быть одически важен, как в «Евхаристии», или охлажденно описателен, как в «Аббате»; но исключена даже тень страшного подозрения, что он — интимен. У Гумилева и особенно Ахматовой стратегия борьбы против инфляции религиозных мотивов предполагала их возвращение в сферу конкретной бытовой церковности.
Недаром запомнили современники, как Гумилев крестился на все церкви подряд; ему и в стихах важно сказать, что за таких лихих воинов, как он, молятся монахи «в Мадриде и на Афоне», — уже не сам он, как было принято у поэтов символистской формации, притязает на особую фамильярность с небесами, но есть у него и на Афоне молитвенники. В стихах Ахматовой сакральное является под (c. 223) покровом смиренных житейских форм; священник отпускает ей грехи — «И темная епитрахиль // Накрыла голову и плечи»; Христов крест — это крестик на ее груди, согретый теплотой ее тела. Но этим поэтам было просто: они оба были люди, крещенные с младенчества. Религиозная ситуация еврея Мандельштама — кстати, упрекавшего обоих своих православных друзей-поэтов за слишком легкое обращение в стихах с именем Божиим15, — была значительно сложнее.
Внелитературные факты очень скупы. Мы знаем, что 14 мая 1911 года Мандельштам был крещен в методистской кирхе в Выборге. Это — нагое документальное сведение, к которому не дано никакой аутентичной интерпретации: ибо сам поэт, разумеется, скорее проглотил бы язык, чем поведал устно и тем более письменно о своих мотивах и переживаниях. На всякий случай добавим — если переживания вообще были. В конце концов, остается возможность полагать, что молодой человек пошел в «выкресты» по прагматическим мотивам, желая сделать для себя возможным поступление в Санкт-Петербургский университет осенью того же года. Кое-что, однако, говорит против такой возможности. Во-первых, предыдущий, 1910 год был заполнен острым религиозным кризисом, о котором свидетельствуют те самые стихи, которые за свою чрезмерную исповедальность не были включены в «Камень»; едва ли такое соотношение дат случайно.
Во-вторых, в дальнейшем для Мандельштама было важно, что хотя бы в некотором, подлежащем уточнению, смысле, он — христианин. Применительно к человеку еврейского происхождения это означало прежде всего — не иудаист: достаточно конкретный и серьезный выбор. От своего еврейства поэт, собственно говоря, не отрекался, хотя относился к нему с острой амбивалентностью, о чем ниже; но иудаизм, до известной черты импонировавший ему как «практический монотеизм», согласно (с. 224) формуле, употребленной по ходу рассуждения о Бергсоне, был им раз и навсегда отвергнут как свой путь. Любое чрезмерное приближение к «утробному миру» иудейства, к материнскому «хаосу», воспринимается Мандельштамом в образах кровосмешения: это «черное солнце Федры» — инверсия исторического преемства.
Можно только гадать, почему Мандельштам пошел именно к методистам. В сущности, это тоже довод против грубо практической мотивировки: чтобы ладить с властями Российской империи, проще было принять православие. Обращение к протестантской конфессии кажется неожиданным, если вспомнить, что тема христианства уже в стихах 1910 года, не говоря о более поздних, связана с недвусмысленно католическими атрибутами («И пятна золота и крови // На теле статуй восковых», «И слова евангельской латыни...» — и прочая), протестантизм же — правда, не раньше 1913 года — являет в мандельштамовской поэзии облик не только мрачный («Здесь прихожане — дети праха, // И доски вместо образов», «лютеранский проповедник» — «гневный собеседник»), но, по-видимому, и безблагодатный («И кряжистого Лютера незрячий // Витает дух над куполом Петра»). Наиболее простых ответов на эти недоумения — два, и они не исключают друг друга. Первый ответ: протестантизм именно как стускленный, неяркий вариант христианства был в колер, в масть «матовому» миру раннего Мандельштама. В 1912 году, то есть вскоре после крещения и ранее только что процитированных стихов 1913 года, было написано стихотворение «Лютеранин», тонкими нитями связанное с тютчевским «Я лютеран люблю богослуженье...» В нем именно скудость протестантского обихода сочувственно описывается как честность и правдивость, исключающая патетику и недостоверные духовные притязания; она, эта скудость, щадит нервы слишком возбудимого, слишком впечатлительного человека, не оскорбляет его вкуса, не тревожит его чувственности, соответствует его пессимизму:
Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.
Второй ответ: если Мандельштам хотел креститься, так сказать, в «христианскую культуру» (выражение, употребленное им еще в 1908 году в письме бывшему учителю В. Гиппиусу), если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, — не православие и не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность; прецеденты имелись. В немецком обиходе даже был создан особый термин — «культурпротестантизм»: он обозначает именно позицию интеллигента, являющегося христианином по крещению и, главное, в силу интеллектуального приятия так называемых христианских ценностей, но держащегося подальше от приходов. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, — позиция комфортабельная.
На деле же он оказывается не внутри протестантизма, а между обоими другими вероисповеданиями, действительно задевающими его душу и вдохновляющими его поэзию. По отношению к православию и католицизму крещение у методистов — «нулевой вариант», отодвигание выбора. Недаром в «Камне» рядом поставлены два стихотворения о двух храмах — о православном соборе св. Софии в Константинополе и о католическом соборе Нотр-Дам в Париже; рядом стояли они и в № 3 «Аполлона» за 1913 год. Правда, симметрично, да не совсем: Нотр-Дам поэт видел своими глазами, Айя-Софию — нет; готика — жизненное и очень глубокое переживание, память о котором будет возвращаться вновь и вновь, вплоть до самых поздних стихов, Византия — эфемерная фантазия молодого человека, полного впечатлений, может быть, от лекции знаменитого византиниста Д. В. Айналова (как предположил бывший товарищ Мандельштама по университету В. Вейдле). Личное творческое признание — о прекрасном, творимом «из тяжести недоброй», — связано именно с Нотр-Дам, не с византийским храмом. И последний нюанс: слово «христианство» тоже введено в стихотворение (c. 226) о Нотр-Дам, в то время как Айя-София увидена как бы в стилизованной языческой перспективе — с точки зрения Артемиды Эфесской или ее поклонников, Юстиниан строит этот храм «для чужих богов».
Одним из наиболее близких поэту людей в 10-е годы был уже упомянутый выше С. П. Каблуков, который, разумеется, убеждал поэта стать православным. О масштабе влияния Каблукова можно спорить, но оно должно было быть достаточно весомо (другое дело, что на таких виртуозов противочувствия, как Мандельштам, лучше не пытаться влиять, ибо всякое прямое воздействие будет сопровождаться, если не вытесняться, обратным). Каблуков водил поэта на концерт духовной музыки, возил к православной заутрене. И все же в мандельштамовских стихах 1914-1915 годов очень громко звучат католические мотивы. Внешним толчком для поэта послужил выход в конце 1913 года первого тома впервые обнародованных М. О. Гершензоном сочинений Чаадаева (второй том вышел в следующем году). Мандельштам был глубоко захвачен чтением; в ноябре 1914 года он уже предлагал редакции «Аполлона» свою статью «Петр Чаадаев». У русского западника прошлого века его поразила идея единства как вневременной смысловой связи16, являющейся, однако, в невыдуманной конкретности исторического преемства, зримое воплощение которого Чаадаев искал в феномене католической церкви. «Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью, — замечает о Чаадаеве Мандельштам. — Я говорю о потребности единства, определяющей строй избранных умов». И еще — об отношении своего наставника к традиции Рима, к папству: «Как очарованный, смотрел Чаадаев в одну точку — (с. 227) туда, где это единство стало плотью, бережно хранимой, завещаемой из поколения в поколение».
Параллельно со статьей Мандельштам пишет стихотворение «Посох», для него необычно легкое ритмически, раскованное, доверительное. Но стыдливость поэта ограждена характерной техникой смыслового наложения: каждое слово выбрано так, что оно приложимо и к самому Мандельштаму, и к Чаадаеву, одним поворотом все можно перевести в сферу объективации.
Посох мой, моя свобода —
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа,
Станет истина моя?
Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.
А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.
Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим.
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!
Чтобы найти правильный подход к «католической» теме, а заодно к противопоставленным ей темам «русской» и «еврейской», позволим себе маленькое отступление, Мандельштам — редкий по ясности пример, на котором можно рассматривать, как у подлинного поэта один и тот же принцип определяет и то, что по-литературоведчески называется поэтикой, и то, что по-обывательски называется психологией. В основе как литературного, так и внелитературного поведения Мандельштама — глубокая боязнь тавтологии в самом широком смысле слова, боязнь мертвой точки, непродуктивной статики, когда «разряд равен заводу», когда «на сколько заверчено, на столько и раскручивается». (с. 228) Все, что угодно, только не мертвая точка. Теоретически это будет исчерпывающе разъяснено в «Разговоре о Данте», но практически дано уже в ранних стихах. Вот изблизи взятый пример для контраста: Ахматова могла закончить прекрасное стихотворение словами «страшной книгой грозовых вестей», но по критериям, к которым приучает своего читателя Мандельштам, слова эти скучают в обществе друг друга, ибо эпитет «страшный» не наращивает смысла сравнительно с «грозовыми вестями». Кто поймет, что в мандельштамовском мире это не банальный страх перед банальностью, не забота о том, как сделать поновей и удивить, короче, не «остранение» по Шкловскому, а закон мысли и жизни, — не удивится тому, о чем мы сейчас будем говорить. Мандельштам, будучи евреем, избирает быть русским поэтом — не просто «русскоязычным», а именно русским17 — не в последнюю очередь потому, что для еврея самоотождествиться в качестве еврея, прикрепить себя к своей национальной идентичности — припахивает тавтологией. Недостает противоречия как энергетического источника, недостает восставленного перпендикуляра. Но вот сделан выбор в пользу русской поэзии и «христианской культуры» — хорошо, одно противоречие вживлено в ткань жизни, один перпендикуляр восставлен: что дальше? Стать православным означало бы так называемую ассимиляцию: «выкрест» однозначно отождествит себя в качестве русского — снова опасность тавтологии, на сей раз еще и сомнительной. Повинуясь императиву, воплощенному в мандельштамовской поэтике, ум Мандельштама шарил в поисках возможности нового выхода за пределы, отыскивал третий член пропорции между данными — еврейством и Россией.
Искомым был некий универсализм, который так относился бы к национальному русскому православию, как христианский универсализм относится к национальному партикуляризму евреев. Стоя перед этим уравнением, поэт бы потрясен примером Чаадаева русского человека, и притом человека пушкинской эпохи, то есть самой органической эпохи русской культуры, избравшего (с. 229) католическую идею единства. Мандельштам угадывает в чаадаевской мысли освобождающий парадокс, родственный тем парадоксам, без которых не мог жить он сам: не вопреки своему русскому естеству, а благодаря ему, ведомый русским духовным странничеством — вот он, «посох мой»! — пришел Чаадаев к тому, к чему пришел. «Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим. Только русский человек мог открыть этот Запад, который сгущеннее, конкретнее самого исторического Запада. Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную землю традиции, с которой он не был связан преемственностью. Туда, где все — необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный». Как выражается Н. А. Струве, обсуждая именно отказ от перспективы тривиальной ассимиляции, Мандельштам пожелал «не стать, а быть русским»; а был ли для этого «не стать, а быть» более убедительный вариант, чем подражение русскому пути Чаадаева, выведшему его за пределы русского?
Легко усмотреть, что строй католической традиции, «бессмертная весна неумирающего Рима», как сказано в статье, перенимает у взрослого Мандельштама те функции противовеса родимому хаосу, которые для отрока выполняла петербургская архитектура. А в понятии родимого хаоса теперь неразличимы два аспекта: «иудейский» и российский. «И печаль моих домашних // Мне по-прежнему чужда» — о чьей печали говорится здесь, о печали русских или о печали евреев? По логике стихотворения это одно и то же: уныние замкнувшегося в себе мира, отлученного от «единства», несвобода, бесплодие тавтологии. (Разумеется, выбор слова содержит аллюзию на евангельский текст: «Враги человеку домашние его» — Евангелие от Матфея, 10, 36). Любопытно, что в одном стихотворении католическая тема просвечивает сквозь петербургскую, потому что речь в нем идет о Казанском соборе Воронихина, «русского в Риме», — хрупком северном отголоске собора св. Петра, главного храма католичества на всей земле.
На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг...
Помимо мысли о римском Сан-Пьетро, помимо всех коннотаций, которые жили для Мандельштама в словах «русский в Риме», стихотворение это связывается с «католическими» стихами через эпитет «свободен». В тех стихах, как и в статье о Чаадаеве, о свободе говорится снова и снова. «Посох мой, моя свобода», «Есть обитаемая духом // Свобода — избранных удел». Собственно говоря, слова для русских стихов неожиданные. Русский интеллигент привык ассоциировать католицизм в лучшем для последнего случае со стройностью и эстетическими приманками, а в худшем — со слепым послушанием какому-нибудь Великому инквизитору, с «чудом, тайной и авторитетом», по Достоевскому; при чем тут свобода? Но Мандельштам ни теперь, ни после не противопоставляет свободу подчинению.
О Чаадаеве он говорит: «Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу». Архитектура ведь в том и состоит, что неоформленное покоряется форме, принимает ее устав. Мандельштамовское понимание свободы не похоже на расхожий либерализм. И если мы спросим себя: свободу от чего он имеет в виду? — мы должны будем ответить: свободу от тавтологии. От случайных черт облика народности. «Синтетическая народность не склоняет головы перед фактом национального самосознания, а возносится над ним в суверенной личности, самобытной, а потому национальной». А выход из тавтологии сам по себе — веселье: «Посох взял, развеселился...» «Бессмертная весна» — вместо нетающих снегов на «черных пашнях». Об этих снегах сначала сказано, что они «не растают никогда», потом — что они все-таки растают, правда, не в низинах, а «на утесах» — для избранных. «Свобода — избранных удел».
Исповедальности поэт продолжает остерегаться и теперь. Это стихотворение написано так, чтобы лирическое «я» могло спрятаться за Чаадаева. Стихотворение «Аббат» в «Новом Сатириконе « и в «Камне» имеет вид подчеркнуто литературный, иронический, бытописательский: «аббат Флобера и Золя», «спутник вечного романа», вздыхающий от жары, утомленный (с. 231) разговором. Но в авторских вариантах, имеющих, как это обычно для Мандельштама, вполне самостоятельное значение, звучат иные ноты:
А в толщь унынья и безделья
Какой врезается алмаз,
Когда мы вспомним новоселье,
Что в Риме ожидает нас!
И еще:
Там каноническое счастье,
Как солнце, стало на зенит,
И никакое самовластье
Ему сиять не запретит.
О, жаворонок, гибкий пленник,
Кто лучше песнь твою поймет,
Чем католический священник
В июле, в урожайный год!
Об алмазе у поэта заходит речь в связи с идеалом воли, внутренней собранности, строя как единства «абсолютного подчинения» и «абсолютной свободы», противостоящего хаосу. «Уныние и безделье» — как бы «хаос российский», в противоположность «хаосу иудейскому». «Все стало тяжелее и громаднее, — скажет Мандельштам о своем времени уже после революции, — потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу».
Конечно, католичество Мандельштама не очень похоже на конфессиональный католицизм тех времен (это выглядело бы для поэта еще одной ловушкой тавтологичности). Во фрагментарно дошедшей речи 1915 года «Пушкин и Скрябин» он неожиданно говорит о Девятой симфонии Бетховена как воплощении «католической радости», и это кажется причудой; с другой стороны, он будто слышал, как ровно через полвека (конец 1915 — конец 1965) на закрытии Второго Ватиканского собора будут исполнять именно эту музыку... Вроде бы еще неожиданнее в той же речи: «Все, что римское, — бесплодно, потому что (с. 232) римская почва камениста, потому что Рим — это Эллада, лишенная благодати» (в предыдущем году было написано: «Поговорим о Риме — дивный город»; в будущем году будет написано: «И никогда он Рима не любил»). Из этого неразумно было бы делать вывод о католических убеждениях Мандельштама до конца 1915 года и отсутствии таковых впоследствии. С одной стороны, он никогда не был католиком, ибо единственный способ для этого — принадлежать католической церкви, «к приходу»; с другой же стороны, мысленное католичество поэта по своей логике не исключает возможности предпочитать Элладу Риму, как не исключает оно любой степени сочувствия православию. Ему запрещено быть тавтологически латинским или тавтологически ватиканским.
Возьмем три первые строки стихотворения 1915 года «Евхаристия»:
Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг!
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык...
Католическое и греко-православное здесь объединены в характерной мандельштамовской технике наложения. Первые две строки дают недвусмысленные приметы латинской мессы (гостия, вознесенная для поклонения в ореоле расходящихся во все стороны лучей из золота); и сейчас же с большой эмфазой назван греческий язык — весомость строки выводит ее за пределы сферы реалий. В конце, однако, мы снова возвращены к мессе (очень конкретное упоминание инструментальной музыки — «играют и поют»).
Позднее, в 1921 году, он будет просто говорить о вселенском христианстве, беря Константинополь и Рим за одни скобки:
Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового завета.
В том же году, славя нищее, неприкаянное и вольное состояние культуры — «не от мира сего», Мандельштам увидит в ней христианские черты: «культура стала церковью», «теперь всякий культурный человек — христианин». Впоследствии для таких формул не было основания: культура перестала быть и нищей, и вольной — какое уж там «отделение церкви-культуры от государства»! Н в самосознании поэта это продолжало вспыхивать. Кто понимает Мандельштама изнутри, услышит и в поздней его формуле — «тоска по мировой культуре» — отголосок его старых мыслей.
Из Мандельштама неосторожно делать «христианского поэта» в каком-то специфическом смысле слова. Столь же неосторожно, однако, вместе с Г. Фрейдиным видеть в христианских мотивах его поэзии лишь цветной лоскуток среди прочих таких же лоскутков на театральном наряде Арлекина. Поэт не был ни богословом, ни Арлекином. От своих мыслей о христианстве он отходил, увлекаемый другими сюжетами, но не отказывался, и они продолжают жить подспудно, вступая в новые сочетания, которые могут казаться нам странными. Но без которых его пути не объяснишь.
На первый план для него, как для его современников и соотечественников, выходят политические темы. Он недаром сказал не об одном себе: «Мы будем помнить и в летейской стуже, // Что десяти небес нам стоила земля». Он знал, что говорил.
* * *
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
О. М.
В жизни слова наступила героическая эра.
Слово — плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба
и плоти: страдание.
О.М.
Рубеж времен — начало первой мировой войны. Начинался, по слову Ахматовой, сразу открывшей в себе именно тогда силу плакальщицы, «не календарный — настоящий двадцатый век».
(с. 234) Но мысль Мандельштама, привыкшую работать с большими временными глыбами и словно пораженную высоким недугом дальнозоркости, события поначалу направили к веку минувшему — к Наполеону и Венскому конгрессу, к интонациям политической лирики Тютчева.
Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!
Ему вспоминается «рукопожатье роковое на шатком неманском плоту», вообще «Россия Александра» (одновременно, по принципу наложения, Россия Александра I и Александра Пушкина, Россия европейская, классическая, архитектурная). Пройдет несколько лет, и окажется, что «солнце Александра» — то, что дальше всего современности, от «сумерек свободы». Что пришло время окончательного прощания с ним. В 1922 году Мандельштам констатирует: «Многие еще говорят на старом языке, но ни какой политический конгресс наподобие венских или берлинских в Европе уже невозможен, никто не станет слушать актеров, да и актеры разучились играть». И ниже: «В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось — вся масса литого золота исторических форм и идей?..»
Но перед своим концом именно обреченное «величие», именно «исторические формы и идеи» обступают ум поэта. В их внутренней опустошенности он должен убедиться — не из внешних событий, а из внутреннего опыта усилий сочувствовать «миру державному», вчувствоваться в его строй. Он прощается с ним по-своему — перебирая старые мотивы, приводя их в порядок, составляя для них средствами поэзии некий каталог. «Вечные сны, как образчики крови, // Переливай из стакана в стакан» — будет это названо позднее. Как в стихотворении «Домби и сын» ему случилось дистиллировать как бы из всех диккенсовских романов единые «метасюжет» — отчасти наподобие того (с. 235) как В. Пропп средствами науки будет делать это с русскими сказками, — так он поступает по отношению к набору имперских и славянофильских тем русского ХIХ века. Получается нечто странное и грустное: серьезная пародия. Заметим, что Мандельштам, при всей своей неизбывной склонности ко всякого рода шуткам, в том числе и стихотворным, никогда не сочинял пародий в обычном смысле. Серьезная пародия получается оттого, что старая интонация иначе звучит в изменившемся воздухе времени.
»Поляки! Я не вижу смысла...» — именно такая серьезная пародия на политические стихи Тютчева; поэт с древним жестом ритора укоряет поляков, как сам Пушкин укорял в свое время «клеветников России», — присутствие оппонента, могущего слышать укоры, в обоих случаях, при разнице масштабов, является одинаково воображаемым. (В той же статье 1922 года будет сказано: «Ни один мессианствующий и витийствующий народ никогда не был услышан другим...») Еще примечательнее другое стихотворение 1914 года — «В белом раю лежит богатырь...» Это опыт, вызывающий резкое чувство абсурдности, и чувство это, по-видимому, не было чуждо поэту, не включившему стихов об иконописно-былинном «пахаре войны» в сборники. Только перед нами отнюдь не обычная сентиментальная версификация на дежурную патриотическую тему, какими не брезговали в ту пору даже истинные поэты, не аморфное обращение к эмоциям, а, напротив, очень четко, даже чересчур четко оформленный суммирующий каталог общих мест русского народного самосознания в славянофильской аранжировке. Совсем как в «Домби и сыне». Притом Мандельштам с аккуратностью, может быть инстинктивной и бессознательной, ставит читателя в известность, что говорящий в этом стихотворении — не он18. (с. 236) Этому служат риторические вопрошания:19
Разве Россия — не белый рай
И не веселые наши сыны?
Здесь каждое слово выбрано по противоположности к стихотворению «Посох» Там — «черные пашни», здесь — «белый рай», там — «печаль моих домашних», здесь — «веселые наши сыны». Там — чаадаевский образ России, здесь — славянофильский; и оба даны на уровне предельного обобщения. Будучи возведена на этот уровень, неизбежный для Мандельштама с его обычной оптикой дальнозоркости, политическая риторика, когда-то имевшая такое импонирующее звучание у поэтов прошлого века, не говоря уже о веках предшествовавших, сама собой оказывалась предметом описательной (на манер «Домби и сына»!) объективации, в конечном счете уничтожая себя самое, показывая, до чего легко ей повернуться на 180 градусов.
Говоря о прощании Мандельштама с имперской темой, упомянем ради удобства читателя одно обстоятельство, которое надо иметь в виду, даже не пытаясь отыскать для него рационалистическое объяснение. В мандельштамовской системе шифров обреченный Петербург, именно в своем качестве имперской столицы, эквивалентен той Иудее, о которой сказано, что она, распяв Христа, «окаменела»: он связывается уже не с Римом, а со святым, богоотступническим и гибнущим Иерусалимом. Цвета, характеризующие безблагодатное иудейство — «Благодати не имея // И священства лишены...» — это черный и желтый (по догадке Г. Фрейдина, цвета талеса): «У ворот Ерусалима // Солнце черное взошло. // Солнце желтое страшнее...» Так вот, именно эти цвета характеризуют петербургский «мир державный». Собственно говоря, и в только что процитированных стихах (с. 237) тема иудейства как-то загадочно соотнесена с мессианско-русской темой через цитату из славянофила Хомякова — «У ворот Ерусалима»20. Но далее: поэт подчеркивает, что черный и желтый — цвета российского императорского штандарта: «Черно-желтый лоскут злится, // Словно в воздухе струится // Желчь двуглавого орла». Эти цвета остаются константой образа Петербурга вплоть до знаменитых стихов 1930 года: «Узнавай же скорее декабрьский денек, // Где к зловещему дегтю подмешан желток». Но отчетливее всего «историософская», эсхатологическая тема города на Неве как обреченного ветхозаветного Иерусалима дана в стихотворении, написанном в ноябре 1917 года и посвященном А. А. Карташеву, православному богослову и представителю ученой церковной общественности на соборе, состоявшемся летом того же года. В фигуре «левита» можно узнать и Карташева, и самого поэта, одержимого пророческой тревогой.
Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалася над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.
Он говорил: небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черно-желтый цвет, се радость Иудеи.
Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.
»Погибающий Петербург, конец петербургского периода русской истории, — комментирует это стихотворение Н.Я. Мандельштам, — вызывает в памяти гибель Иерусалима. Гибель обоих городов тождественна: современный город погибает за тот же грех, что и древний.
Петербург не Вавилон — мировая блудница пророческих прозрений, а именно Иерусалим. Вавилон (с. 238) языческий город, погряз в роскоши и блуде. Петербург, как и Иерусалим, отвечает за другой — более глубокий грех». Какой же именно? По-видимому, едва ли будет ошибкой понять негативный общий знаменатель между Российской империей и окаменевшей Иудеей как национальный мессианизм, срывающийся в «небытие» (тема «Пшеницы человеческой» в 1922 году), — качество государственности, чересчур густо сакрализованной. Уходящий «державный мир» вызывает у поэта сложное переплетение чувств. Это и ужас, почти физический. Это и торжественность: «Прославим власти сумрачное бремя, // Ее невыносимый гнет». И третье, самое неожиданное, — жалость. Государство вызывает обычно либо преданность, либо холодную лояльность, либо ненависть; кажется, только Мандельштам заговорил о «сострадании» к государству, к его «голоду». В одной из глав «Шума времени», посвященных поре гражданской воины, возникает сюрреалистический образ «больного орла, жалкого слепого, с перебитыми лапами, — орла добровольческой армии» двуглавой птицы, копошащейся в углу жилища сердобольного полковника Цыгальского «под шипенье примуса». Но чернота этой геральдической птицы была увидена как цвет конца еще в 1915 году.
По понятной связи мыслей действительность русской революции приближает к уму поэта образы французской революции, которые впоследствии так и остаются в постоянном ассоциативном репертуаре его поэзии. Среди них один имел особое значение, ибо через него выражал себя трагизм, рождающийся из проблематики революции, из недр ее антиномий. Это воспетый еще Пушкиным лучший поэт революционной Франции, поэт-гражданин, вдохновленный революцией и революцией умерщвленный, сложивший голову на гильотине под самый конец робеспьеровского террора: Андре Шенье. Он и раньше привлекал внимание Мандельштама. Но впечатления 1917 года побудили поэта прямо-таки заговорить голосом Шенье. Это сделано в стихах на гибель растерзанного солдатами комиссара Временного правительства эсера Линде — того самого, который известен читателям «Доктора Живаго» как комиссар Гинц; но если Пастернака (с. 239) обстоятельства переданы реалистически, не без сострадательной иронии, то у Мандельштама они возвышены до пафоса, казалось бы навсегда отзвучавшего в день казни Шенье. Согласно поэтической вере Мандельштама, очень глубоко чувствующего кровь, жертва, просто потому, что она — жертва, достойна пафоса. То, что получилось, больше дает понятие о подлинном Шенье, чем любой из переводов французского поэта.
Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.
И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые -
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.
Кто сочтет этот классицизм курьезом, будет не прав; стихотворение это слишком близко к такому неоспоримому шедевру, как «Декабрист». Для Мандельштама было совершенно неизбежно видеть мучившую злобу дня с той же установкой на дальность, как своего декабриста. С другой стороны, однако, русская революция — не повторение французской, и строй русской поэзии не похож на «абстрактную, внешне холодную и рассудочную, но полную античного беснования поэзию Шенье» (мандельштамовская характеристика).
Шенье в свое время претворял в лиризм политическую риторику; у нас из самых больших поэтов с политической риторикой работал только Маяковский (Цветаева даже в «Лебедином стане» не могла удержаться в пределах таковой). Традиция русской поэзии требовала такого ответа на политические события, который выходил бы за пределы только политического, а потому был бы противоречивым с любой однолинейно-политической точки зрения. Чтобы адаптировать, например, стихотворение Ахматовой «Когда в тоске самоубийства...», одним желательно было отсечь два первые четверостишия, а другим — последнее; целое не вмещалось ни в одну систему, ни в другую. Что же говорить о Мандельштаме с его (с. 240) отталкиванием от тавтологий! Самый значительный из его откликов на революцию — стихотворение «Сумерки свободы» (май 1918 года), и его очень трудно подвести под рубрику «приятия» или «неприятия» в тривиальном смысле. Тема отчаяния звучит в нем очень громко:
В ком сердце есть — тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.
Ласточка, нежный и хрупкий образ души, свободы, поэзии, здесь является в иной, не свойственной ей функции. Речь идет уже не о ласточке, единственной и вольной, а о ласточках, которые «связаны» — слово-то какое! — в легионы, в боевой строй, сплочены принуждением времени. Великий сдвиг отнимает возможность ориентироваться в мире: солнце закрыто. Вспоминал ли Мандельштам «осязаемую тьму» из библейской Книги Исхода, одну из «казней египетских»? Но в этой темноте и густоте движения живой стихии поэт не отделяет себя от происходящего и описывает действие в грамматической форме первого лица множественного числа — «мы» сделали это.
Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот,
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые -
Не видно солнца, и земля плывет.
Последняя строка процитированного шестистишия поражает тем, как много в нее вложено: она вместительна, как емкая формула. Вспомним, что в иной, более темный час истории, в 1933 году, поэт начнет стихотворение, в котором он возвысит свой голос против сталинщины, тоже с формулы, близкой по смыслу к этой, — с еще одной жалобы на невозможность ориентироваться в человеческом пространстве: «Мы живем, под собою не чуя страны». Но различие между обеими формулами тоже существенно и подчеркивает точность каждой из них. В более ранней скрылось от зрения солнце — образ всего далекого и высокого, общечеловеческого, «горнего»; однако «дольнее» никуда (c. 241) не ушло, земля, земная стихия человеческой массы, «пшеница человеческая», — осязаема, хотя и текуча, «десяти небес нам стоила земля». Но в более поздней формуле подменена и перестала быть осязаемой «страна» — та самая земля, за которую платили небесами.
Но тема сопричастности совершающемуся, намеченная местоимением «мы», крепнет под конец стихотворения:
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом, океан деля...
Происходящее «огромно», и оно требует степени мужества, которая была бы пропорциональна этой огромности. «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу», — сказано в брошюре 1922 года «О природе слова». «Мужайтесь, мужи», — подумать только, что эти слова принадлежат отнюдь не героической натуре вроде Гумилева, а, напротив, человеку столь хрупкому и впечатлительному, столь непоследовательному в своем каждодневном поведении, нуждающемуся, как ребенок, в помощи! И все-таки, как ни странно, они оправданы, и притом дважды: во-первых, уникальной независимостью его мысли, на своем внутреннем пространстве и впрямь твердой как алмаз; во-вторых, постепенно созревающей от десятилетия к десятилетию личной готовностью быть жертвой. Когда двадцатидвухлетний Мандельштам писал до революции, даже до начала войны: «Россия, ты — на камне и крови — // Участвовать в твоей железной каре // Хоть тяжестью меня благослови!», — было ли это еще литературой? Трудно сказать — только почему-то подобные слова имеют обыкновение исполняться (как буквально, от слова до слова, исполнилась молитва Ахматовой: «Отыми и ребенка, и друга»). В 1922 году мотив заклания становится сосредоточеннее и сокровеннее: (с. 242)
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.
В 1930 году в одном из стихотворений армянского цикла промелькнет сожаление поэта, что он «крови горячей не пролил»; присущее Мандельштаму глубокое и совсем не сентиментальное отвращение ко всему, что пахнет кровью, не оставляет ни малейшего сомнения, что речь идет не о чужой, а о своей собственной крови. И так пойдет дальше — вплоть до той совсем уж внелитературной ситуации февраля 1934 года, когда Ахматова услышит в Москве, на переходе от Пречистенки к Гоголевскому бульвару, признание Мандельштама, уже написавшего к этому времени гибельные для себя стихи о Сталине: «Я к смерти готов». (Слова, эхо которых отзовется в «Поэме без героя».)
Поэты, укорененные в «старом мире», должны были в первые послереволюционные годы решить для себя вопрос об эмиграции или отказе от нее. Классическая форма отказа — у Ахматовой: «Но равнодушно и спокойно // Руками я замкнула слух, // Чтоб этой речью недостойной // Не осквернился скорбный дух». У Мандельштама тема отказа появляется в 1920 году, но звучит поначалу под сурдинку и как-то легкомысленно: «Недалеко от Смирны и Багдада, // Но трудно плыть, а звезды всюду те же». И как только она крепнет, она окрашивается в тона жертвенные, и притом отчетливо христианские. Символом верности русской беде становится Исаакиевский собор (который чисто архитектурно менее импонировал поэту, чем подчеркивается внеэстетическое, духовно-нравственное значение образа). После прощальной оглядки на Айя-Софию, символ вселенского православия, и на Сан-Пьетро, символ вселенского католичества, взятые в единстве, как манящая средиземноморская даль, сказано:
Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим:
Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.
(с. 243) Самое начало 20-х годов, когда Мандельштам после скитаний по южным краям (21) вернулся в Петроград и проживал в Доме искусств, затем снова ездил на юг или обосновывался в Москве, было для его мысли и для его поэзии временем подъема. Эмоциональный тон подъема — то странное, вроде бы иррациональное настроение катарсиса, которое так просветленно звучит в стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова...», в статье «Слово и культура», очень естественно соединяясь с чувством обреченности и физической болью тягот. О хрупком веселье русской культуры посреди гибельной стужи русской жизни сказаны самые пронзительные слова, которые когда-либо говорились:
И живая ласточка упала
На горячие снега.
Это пятикратно повторенное под ударением «а» звучит как ламенто, в восторге которого боль и радость — одно и то же. Подобное настроение посещало в годы разрухи не одного Мандельштама. «Все голодной тоскою изглодано. // Отчего же нам стало светло?» — спрашивала тогда же Ахматова, менее всего склонная относиться к происходящему с эйфорией. Длится парадоксальное по своей сути историческое мгновение: старая культура еще жива и остается собою, она, как уверяет Мандельштам в только что упомянутой статье, жива даже «более, чем когда-либо», но у нее, отрешенной от всех своих внешних опор и предпосылок, словно открылось новое измерение. «Нет ничего (с. 244) невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков».
В стихах этого времени, составляющих заключительную часть сборника «Tristia», достигнуто единственное в своем роде равновесие между старомодной «архитектурной» стройностью и новой дерзостью семантического сдвига, никак не укладывавшейся в рамки акмеизма22, между прозрачным смыслом и «блаженным бессмысленным словом». От акмеистических принципов Мандельштам отходит и в теории. «Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но незабытого тела...
Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение». Музыка сознательно предпочтена пластике. И при этом — императив равновесия: слово получает свободу от своего предметного смысла, однако «не забывает» о нем, подобно тому как культура в переходный момент получает свободу от своих прежних оснований, отрешается от них, но еще не теряет верности себе. Так называемая магия слова вплотную подходит к «зауми», но не переходит последней черты. «В беспамятстве ночная песнь поется»; но схождение в ночные глубины беспамятства служит тому, чтобы обострить до предела акт памяти, припоминания. Техника постепенного ухода от опознаваемых деталей и примет подразумеваемой жизненной ситуации, хорошо прослеживаемая по черновикам, работает не на самоцельный (с. 245) бред и не на рационалистический ребус — она создает контраст для внезапного прорыва «узнаванья». «Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнаванья, брызнут из глаз его после долгой разлуки». В. Рождественский пересказывал устные советы Мандельштама: «Понятия должны вспыхивать то там, то тут... Но их разобщенность только кажущаяся. Все подчинено разуму, твердому логическому уставу». Так и построены наиболее абсолютные образцы серединного периода творчества Мандельштама- «Сестры — тяжесть и нежность...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Возьми на радость из моих ладоней...», «За то, что я руки твои не сумел удержать...»
В статьях начала 20-х годов поэт как будто торопится сказать самое главное. Среди них — уже цитированная выше «Пшеница человеческая», ошеломляюще умный, трезвый, реалистический опыт о духовной ситуации эпохи масс, когда вышедшая из послушания «пшеница» не дает выпечь из себя «хлеба», а традиционные символы государственной «архитектуры» превращаются в бутафорию. Одной этой статьи было бы достаточно, чтобы навсегда опровергнуть миф о Мандельштаме как «птичке божьей», неспособной связать двух мыслей по законам рационального мышления. «Остановка политической жизни Европы как самостоятельного, катастрофического процесса, завершившегося империалистической войной, совпала с прекращением органического роста национальных идей, с повсеместным распадом «народностей» на простое человеческое зерно, пшеницу, и теперь к голосу этой человеческой пшеницы, к голосу массы, как ее косноязычно называют, мы должны прислушаться, чтобы понять, что происходит с нами и что нам готовит грядущий день», — ведь здесь ни слова не сказано зря. Статья, наперед изобличающая пустоту, историческую неоправданность, тупиковость всех предстоящих попыток обновить кровавый пафос государственного «величия», как будто обращена непосредственно к нам. Кажется, мы только теперь способны как следует оценить ее формулировки. «Ныне трижды благословенно все, (с. 246) что не есть политика в старом значении слова... все, что поглощено великой заботой об устроении мирового хозяйства, всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба, — сейчас одно и то же». Не менее актуальной остается другая статья того же времени — «Гуманизм и современность», полемизирующая с тезисом символистов о конце гуманизма, его исчерпанности.
Большими линиями, широкими мазками, ни на что не отвлекаясь, Мандельштам набрасывает три свои темы. Первая — неизбежность новой, монументальной «социальной архитектуры», кризис попыток обойтись одной правовой регуляцией, характерных для прошлого века, гибель, нависшая над домашним уютом. Вторая тема — угроза социальной архитектуры, враждебной достоинству и свободе человека: нового «Египта», новой «Ассирии». «Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве». Мы понимаем, почему в одном стихотворении 1937 года неожиданно сказано: «пустячком пирамид»; при всей своей колоссальности, пирамиды не могут быть «большими», потому что не соотнесены с человеческой мерой23. И третья тема — идеал, альтернатива «социальной пирамиде» — «свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, задуманное как сложный и дремучий (с. 247) архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально, и каждая частность аукается с громадой».
Какие бы превратности ни постигали хрупкое равновесие нервов Мандельштама, какие бы зигзаги ни прочерчивало его поведение в повседневной жизни, едва ли не играющей для поэтов роль черновика, — его неподкупная мысль вглядывалась в происходящее твердо, без паники, без эйфории и ставила вопросы, ничего не скажешь, по существу.
Сегодня, в свете нашего опыта, — что можем мы добавить к его формулировке принципов и критериев?
* * *
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...
О. М.
Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.
О. М.
Двойное равновесие, которым отмечено лучшее, что писал Мандельштам в начале 20-х годов, — равновесие тревог и надежд в осмыслении времени, обеспеченное сознанием независимости собственной мысли, да и культуры в целом, и равновесие темнот и ясности в облике стиха, обеспеченное тем, что сам поэт называл чувством внутренней правоты, — уже к середине десятилетия оказывается буквально взорванным.
Первой травмой был, конечно, расстрел Гумилева. Нечто вроде присяги на верность памяти казненного друга проходит через всю жизнь Мандельштама. В письме к Ахматовой от 25 августа 1928 года сказано: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется». Со временем боль не притуплялась, а скорее усиливалась: на нее накладывались новые впечатления.
Надежда на «отделение церкви-культуры от государства», на «органический тип новых взаимоотношений, связывающих государство с культурой наподобие того, как удельные князья (с. 248) были связаны с монастырями», которые они держали «для совета», все определеннее оказывалось иллюзией. Культуру энергично и расторопно ставили на место и пристраивали к делу — не без участия самой интеллигенции. Убеждение Мандельштама, выраженное в более поздней фразе, приводимой Н. Я. Мандельштам: «В вопросах литературы они должны спрашивать у нас, а не мы у них», — воспринималось уже как анахронизм. Независимость становилась фрондой, либо опасной, либо обреченной мельчать, спускаться в приватные разговоры, переходить в позу, в бытовую воркотню. Одни принимали новый порядок вещей на его собственных условиях, постепенно снимая все свои оговорки; другие уходили в эмиграцию. Круг носителей культуры, способных понимать друг друга, распадался.
Существовали причины, по которым положение Мандельштама и Ахматовой стало неуютным несколько ранее, чем положение других больших поэтов. Какую-то роль играл биографический, можно сказать, хронологический фактор, по своей сути вполне случайный. Если поэт по-настоящему составил себе имя только после революции, это само по себе побуждало воспринимать его как поэта советского, не «старорежимного». Так было с Пастернаком: хотя он родился как раз между годами рождений Ахматовой и Мандельштама, хотя «Близнец в тучах» вышел всего на год позже «Камня» и на два года позже «Вечера», заметили его только после выхода «Сестры моей — жизни» в 1922 году (принадлежность к футуристическим кругам тоже была для 20-х годов лучшей рекомендацией, чем принадлежность к акмеистической группе). С другой стороны, если поэт составил себе имя достаточно задолго до революции, как деятели символизма, его репутация воспринималась как «старорежимная», но в самой своей «старорежимности» солидная: он был бесспорным реликтом старой культуры, до поры до времени состоящим под охраной. С Ахматовой и Мандельштамом было хуже: оба были на виду в 10-е годы, тогда выработали свои навыки поведения в литературе и жизни, вообще прочно ассоциировались с этой порой, а потому не могли избежать обвинения в старомодности, в котором неразличимо переплетались мотивы политические («старорежимность») и эстетические (устаревшая поэтика). Они воспринимались как старики, пришедшие из старого мира. Но (с. 249) на самом деле они были еще совсем молоды, и репутация их, будучи установившейся, не была освящена временем и пиетета не вызывала. «Меня хотели, как пылинку, сдунуть», — жалуется Мандельштам в 1931 году, добавляя: «Уж я теперь не юноша, не вьюн»; в этой жалобе выразилась одна из характерных черт его судьбы. Для одних — старик, чье время прошло вместе со старым Петербургом; старик, хотя всего на четыре года старше Багрицкого. Для других — «юноша», «вьюн», которому до конца века не стать солидным и почтенным. «Оттого-то мне и годы впрок не идут — другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот — обратное течение времени».
Последнее обстоятельство выяснится со всей определенностью под конец 20-х годов. Но мрачные предчувствия одолевают поэта много раньше. Они с большой силой выражены в стихотворении «1 января 1924 г.»:
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.
Это стихотворение построено на противочувствиях. У революции есть смысл: Мандельштам вспоминает «Присягу чудную четвертому сословью // И клятвы крупные до слез» и отказывается предать их «позорному злословью». Он недаром любил Герцена. Но будущее смутно:
Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
Однако для поэта куда страшнее любой внешней угрозы угроза потерять чувство внутренней правоты, усомниться в своем отношении к слову. Этого не сравнить ни с какими неуютными обстоятельствами. Конечно, внутренняя угроза в конечном счете тоже связана с состоянием общества, но иной, более тонкой связью; дело не в том, что поэт со страхом оглядывается на кого-то, — просто воздух, который он находит в своей собственной груди, зависит в своем качестве от атмосферы общества. Страшно не то, что другие думают и говорят о тебе как о «бывшем» поэте, наравне со всеми другими «бывшими», которых так много (с. 250) на дне новой социальной структуры; страшно, когда сам думаешь о себе так. Не самое страшное — замолчать, потому что кто-то залил тебе говорящие губы оловом; самое страшное — мысль: а может быть, мне самому уже нечего сказать?
»Беспомощная улыбка человека, // Который потерял себя» все чаще появляется в мандельштамовских стихах.
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущение тяжести,
Хотя кувшин наполовину расплескался, пока его несли домой...
Голос, так властно звучавший в «Камне» и в «Tristia», становится судорожным и напряженным. Трудная попытка уйти от самого себя запечатлена прежде всего в «Грифельной оде». Там примечательна не только густая темнота образов, решительно нарушающая прежнее равновесие, не оставляющая места ни для какой прозрачности, ни для чего «дневного»:
Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!
Примечательна и такая частность, как отход от принципиальной для прежнего Мандельштама ориентации на аскетически бедные, но классически точные рифмы, переход к экспериментам с ассонансами («песни» — «перстень», «позором» — «кормит», «бушует» — «шубы»), неожиданно напоминающими раннего Эренбурга, хотя, конечно, не его одного. Это попытка схватить и передать звучание времени, отличное от той музыки, с которой поэт простился ранее: «...на тризне милой тени // В последний раз нам музыка звучит». Теперь она отзвучала.
Стихи приходят все реже. После очень сильных стихотворений 1925 года, посвященных Ольге Ваксель, в которых страсть (с. 251) борется с острым чувством вины, тема которых — беззаконный праздник за пределами данной человеку жизни, в «заресничной стране», а эмоциональный фон — отчаяние, поэт замолкает на годы, до самого конца десятилетия. Вспомним, что одновременно творческий кризис постигает и Ахматову и Пастернака. Но у Мандельштама он был тяжелее и продолжительнее: ни одного стихотворения за пять лет. «И ни одна звезда не говорит...» Одно дело — слушать про себя, что ты «бывший», пока знаешь, что работа идет по-прежнему; совсем другое — когда она остановилась. Тут человек становится по-настоящему уязвим, любая обида застит мир, любая муха вырастает в слона. Отсюда беспокойное настроение обиды, воинственной защиты своего достоинства, безнадежной тяжбы о собственной чести, которое уже не отпускает Мандельштама до конца, но кульминации своей достигает на рубеже 20-х и 30-х годов. Начинаются истории, о которых говорят: «попасть в историю», какие умел описывать Достоевский, — смертельно серьезные, но одновременно всласть разыгрываемые, как театральное представление, инсценируемые самой жертвой. Поэт, который не может писать стихов и потому не находит выхода для накапливающегося в нем напряжения, сам нарывается на скандал, сам провоцирует современников на травлю себя, а в такое грозное время много усилий тратить не приходится. Как сказал, перелагая гётевскую «Песнь арфиста», любимый Мандельштамом Тютчев: «Кто хочет миру чуждым быть, // Тот скоро будет чужд».
Годы, когда не было стихов, заняты работой над прозой. Собственно, «Шум времени» создавался отчасти параллельно со стихами, последними перед паузой; он вышел осенью 1926 года. Мы уже не раз цитировали эту автобиографическую книгу, без выписок из которой рассказывать жизнь Мандельштама нет никакой возможности. Что характерно для эмоциональной атмосферы середины 20-х годов, так это тон глубокого отчуждения от собственной биографии.
«...Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, (с. 252) припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого».
Нечто подобное было и раньше — поэтика ранних стихов тоже по-своему «враждебна всему личному»; но такая степень резкости приходит только теперь. Не из конъюнктурных соображений, а по глубокому внутреннему инстинкту поэт боится застрять в историческом и биографическом прошлом. Но, отталкиваясь от своего прошлого, он отталкивается от самого себя. Вспомним, что в 1928 году он писал, отвечая на анкету под заглавием «Советский писатель и Октябрь», предложенную редакцией газеты «Читатель и писатель»:
»Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту...»
В этих словах есть, конечно, и боль, и нечто вроде черного юмора. Но мы ничего в них не поймем, если совсем откажемся принимать их буквальный смысл. Какой-то частью своего существа поэт действительно хочет избавиться от «биографии», начать с нуля, хочет со страхом, но и со страстью. Поэты — они такие, а Мандельштам — в особенности.
B том же 1928 году выходит «Египетская марка», где тема отталкивания от себя доведена до надрыва, до транса. Мандельштам создает своего двойника, лепит его на глазах читателя, дарит ему свои черты — например, «макушку, облысевшую в концертах Скрябина», — свои психологические странности, идиосинкразии, нарекает Парноком, чтобы на протяжении всей повести предать его чему-то вроде ритуального поругания. Парнок — не человек, а «человечек», у него «овечьи копытца» и «кроличья кровь». Из первой же относящейся к нему фразы мы узнаем, что его презирали «швейцары и женщины». Всякая хула к нему липнет: «Скажу вам больше: сегодня на Фонтанке — не (с. 253) то он украл часы, не то у него украли. Мальчишка! Грязная история!» И поэт разражается заклинанием:
»Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него!»
Это значит: отличить себя от себя. Оторвать себя от себя. Как было сказано в одном стихотворении 1924 года: «О, как противен мне какой-то соименник, // То был не я, то был другой».
Параллельно теме Парнока проходит тема смерти Анджолины Бозио, итальянской певицы прошлого века, не перенесшей петербургских морозов. Это тема обреченности певчего горла, глубоко автобиографическая: умирающая Бозио — эквивалент образу живой ласточки, совершающей свое падение «на горячие снега». Темы связаны довольно причудливо; сам автор сказал по поводу «Египетской марки»: «Я мыслю опущенными звеньями».
Целомудренная сдержанность мандельштамовской поэзии ограждалась тем, что поэт, в отличие от многих своих собратьев по веку, не пускал в свои стихи судорогу нервов. Мандельштам с осуждением высказывался о форсировании языковых средств в прозе Андрея Белого. Даже в «Шуме времени» нервозность стоит где-то за интонацией, но не допускается в самое интонацию. И только в «Египетской марке» с хаоса принципиально сняты все запреты.
»Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячечного лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда».
Тон — захлебывающийся; одна метафорическая волна посылается вдогонку другой, и эти метафорические эксцессы не отпускают читателя от начала и до конца. Как выразился Н. Берковский в своей статье 1929 года, «в «Египетской марке»» борзые игрового стиля затравлены до последних сил». И так раздраконены темы, по природе своей менее всего игровые, — тема чести и бесчестия, тема страха.
О чести сказано: «Пропала крупиночка: гомеопатическое драже, крошечная доза холодного белого вещества». О страхе — что он «координата времени и пространства»». «Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: «с ним мне не страшно!»» Страх и боль втянуты в игру, (с. 254) наделены гротескной амбивалентностью: со страхом не страшно; пытка лишения чести открывает возможность «крикнуть последнее неотразимо убедительное слово» — «как каторжанин, сорвавшийся с нар, избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор». Этим устранена опасность слишком однозначной жалобы, малодушного нытья. Но тем сильнее выражено отчаяние.
Когда Мандельштам описывает, как его Парнок беспомощно и безуспешно пытается летом 1917 года спасти от самосуда толпы пойманного воришку, он включает в систему осмеяния то дело, которому он отдал весной 1928 года большую часть своего времени и которое было для него серьезным до святости: хлопоты об отмене смертного приговора пяти банковским чиновникам. Как раз тогда вышел, в большой степени благодаря содействию Н. И. Бухарина, сборник «Стихотворения», которому суждено было остаться последним прижизненным сборником Мандельштама; поэт послал его тому же Бухарину с надписью, имевшей в виду казнь чиновников: «Каждая строчка этих стихотворений говорит против того, что вы намереваетесь сделать». Такая надпись стоит, чтобы над ней задуматься. У Мандельштама нет каких-то особенно филантропических тем; но ведь и Пушкин не был сентиментальным моралистом, когда подвел итоги своих поэтических заслуг в строке: «И милость к падшим призывал». Дело не в морали, дело в поэзии. Согласно пушкинской поэтической вере, унаследованной Мандельштамом, поэзия не может дышать воздухом казней. Уживаться с этим воздухом, а значит, составлять с ним одно целое может только «литература» — например, созданные с участием именитых писателей хвалебные сборники о первых сталинских каторгах. Поэзия самым своим бытием казнит казнь — и постольку казнит «литературу». Мы уже цитировали в начале статьи слова о казненном Андре Шенье, который сам совершил над литературой казнь.
Заступаясь за приговоренных к смерти, Мандельштам не знал, что вскоре заступничество понадобится ему самому. Здесь не место говорить о конфликте поэта с А. Горнфельдом, обстоятельства которого вкратце изложены в комментариях к (с. 255) «Четвертой прозе». Предмет конфликта сам по себе выеденного яйца не стоил. Дело существенно изменилось, когда Д. Заславский — тот самый, который, достойно завершая свою карьеру палача поэтов, назовет в 1958 году Пастернака «литературным сорняком», — опубликовал 7 мая 1929 года в «Литературной газете» фельетон против Мандельштама под заглавием: «О скромном плагиате и о развязной халтуре»: сбывались худшие предчувствия «Египетской марки» («Выведут тебя когда-нибудь, Парнок...») — поэт должен был убедиться, что нет никаких помех к тому, чтобы третировать его не как литературного деятеля с двадцатилетним стажем и давно завоеванным именем, а как никому неведомого мелкого жулика. Правда, целый ряд советских писателей и критиков подписали письмо в «Литературную газету», протестовавшее против фельетона Заславского. Но в начале 1930 года Мандельштама начинают вызывать на допросы, вроде бы в связи с той же горнфельдовской историей, однако задавая вопросы и про его «период у белых». «Запутали меня, как в тюрьме держат, свету нет, — жалуется поэт в письме к жене. — Все хочу ложь смахнуть — и не могу, все хочу грязь отмыть — и нельзя». Невесело было ему и в редакции газеты «Московский комсомолец», куда он поступил на службу. «Мне здесь невыносимо, скандально, не ко двору. Надо уходить. Давно... Опоздал...» Но рядом с этим — очень характерная для настроения Мандельштама в описываемое время мысль о своем несчастье как некоем «богатстве»: «Разрыв — богатство. Надо его сохранить. Не расплескать».
»Сохранить», «не расплескать» — прежде всего для творчества, для выговаривания в слове с последней откровенностью отчаяния. Это сделано в «Четвертой прозе», надиктованной жене зимой 1929-1930 года. Захлебывающийся, нервно-торопливый тон — по сути тот же, что в «Египетской марке», но вместо господствовавшей там мрачно-игровой беспредметности, которая соответствовала фазе предчувствий, здесь темы предметны и конкретны.
Личная тема — постигшие Мандельштама злоключения, необузданные памфлетные выпады против Горнфельда и других (с. 256) антагонистов и, шире, несовместимость вольного поэта с «литературой», столь быстро адаптирующейся и умеющей доказать кому надо собственную нужность. «Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными». А поэт — вне игры, он ничего никому не докажет, не внушит к себе ни малейшего уважения. «Сколько бы я ни трудился, если бы я носил на спине лошадей, если бы я крутил мельничные жернова, все равно я никогда не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками». В этой связи вспоминается один сюжет из «Второй книги» Н. Я. Мандельштам — как в самом начале 30-х годов какая-то осетинская женщина из крестьян говорила поэту: «Ося, ты к ним в колхоз не идешь, я понимаю... Ты лучше иди, не то пропадешь, видит бог, пропадешь...»
Сверхличная тема — то, что происходит со всей страной.
«...Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-peке, так наши взрослые ребята играючи нажимают, на большой перемене масло жмут: — Эй, навались, жми, да так, чтобы не было видно того самого, кого жмут, — таково священное правило самосуда.
Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!
Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее!
Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!
Мужик припрятал в амбаре рожь — убей его!"
Мандельштам, скорее недолюбливавший Есенина, с тоскующей любовью вспоминает одну есенинскую строку — «Не расстреливал несчастных по темницам». Это для него «символ веры... подлинный канон настоящего писателя, смертного врага литературы».
Следует отметить, что в самых резких местах «Четвертой прозы», — язык не «антисоветский» и не досоветский; это распознаваемый и актуальный для 1929-1930 годов язык советской оппозиции. Характерна в этом отношении фраза: «Мы...(с. 257) правим свою китайщину, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса». Сказать, что для официальной фразеологии понятие класса, которым оперировали на каждом шагу, по существу стало «запретным», — это кажущийся парадокс, очень конкретный, смысл которого понятен для взгляда изнутри, не для взгляда извне. Ни один эмигрант так не сказал бы.
Весной 1930 года Мандельштам — еще раз по заступничеству Бухарина — получает возможность сменить ставшую удушливой московскую обстановку. Он едет в санаторий на Кавказе, затем в Армению. Встреча с древней армянской культурой становится для него одним из формирующих жизненных впечатлений. В Армении начинается дружба с Б. Кузиным, человеком глубоким, прямым, абсолютно неспособным на конформизм. Об этой дружбе будет сказано: «Когда я спал без облика и склада, // Я дружбой был, как выстрелом, разбужен». И происходит чудо: «сон без облика и склада» прекращается. Снова приходят стихи.
Новые стихи куда яснее, чем «Грифельная ода», и то, что с ней соседствовало. Их интонация проще, резче — что называется, раскованнее и современнее, — чем у прежнего Мандельштама. «Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь» — это слова из «Египетской марки», но вполне всерьез они подходят не столько к повести, в которой так много игровых подмен, а к мандельштамовской поэзии 30-х годов.
Настоящая правда — страшна. Возврат поэтического дыхания начинается со стихов о страхе. В поэзию входят темы, разработанные перед этим в прозе; но если там было метание, безнадежное усилие уйти от угрозы, здесь этого нет. Стихи потому и стали возможны, что поэт принял свою судьбу, возобновляя внутреннее согласие на жертву, одушевлявшее его поэзию с давнего времени.
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом...
Да, видно, нельзя никак.
(с. 258) Но его мужество — мужество отчаяния. «Были мы люди, а стали людьё». У него никогда еще не было этих неистовых интонаций, выражающих состояние души, когда последние силы собраны, как в кулак:
По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.
Или помягче, но и пронзительнее:
Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Все равно!
Или как бы со спортивной бодростью:
Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.
И с вызовом — прежде всего современникам, извергшим, исключившим, отторгшим от себя поэта, но также и тем, кто действительно остался во вчерашнем дне, и себе же самому, заявившему семь лет назад «Нет, никогда ничей я не был современник»:
Пора вам знать: я тоже современник -
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак.
Как я ступать и говорить умею.
Попробуйте меня от века оторвать,-
Ручаюсь вам, себе свернете шею!
Поэзия Мандельштама становится в начале 30-х годов поэзией вызова. Она накапливает в себе энергию вызова — гнева, негодования. «Человеческий жаркий обугленный рот // Негодует и «нет» говорит». (с.259). После ряда подступов, набросков, вариантов рождается такой шедевр гражданской лирики, как «За гремучую доблесть грядущих веков...» Это уже не всполошные выкрики «Четвертой прозы» — голос вернул себе спокойную твердость, каждое слово плотно и полновесно:
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе...
Между тем круг суживается. На фотографиях сорокалетний поэт выглядит глубоким стариком. Появление «Путешествия в Армению» в журнале «Звезда» (март 1933 года) вызывает бурный скандал; в августе «Правда» печатает разгромную рецензию.
Терять было нечего. Наступило время, когда слово должно было стать делом, поэзия должна была стать поступком. В эти годы поэт не без мрачного удовлетворения говорил жене, что к стихам у нас относятся серьезно — за них убивают.
Разумом или инстинктом, но одно свое свойство Мандельштам должен был знать: до смешного хрупкий и немощный человек, он сразу делался сильнее, когда абсолютно прямо шел навстречу самому главному страху. (Так было, по-видимому, в 1918 году, когда он вырвал из рук работавшего в ЧК левого эсэра Блюмкина ордера на расстрелы.) Тут он переставал быть «Парноком». «Парнока» — того можно было утопить в луже, в стакане воды: изо дня в день грозили смутные страхи, абсурдные обиды, булавочные уколы, и Мандельштам терял всякое самообладание. Но нет — он погибнет не от булавочных уколов.
Так в ноябре 1933 года были написаны стихи против Сталина: «Мы живем, под собою не чуя страны...»
Перед этим был страшный голод, искусственно созданный в ходе сталинской коллективизации на Украине, на Дону, на Кубани: вымирали целые деревни. Не должно быть забыто, что именно Мандельштам — «горожанин и друг горожан», как он назвал себя, — первым сказал в своих стихах о великой крестьянской беде: (с. 260)
Природа своего не узнает лица,
А тени страшные — Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...
Он об этом думал; недаром в одном из вариантов его поэтического памфлета Сталин назван «душегубцем и мужикоборцем».
Что сказать о самом памфлете? Это прежде всего поступок, некое «ужо тебе!» — как у пушкинского Евгения. Чисто поэтически две первые строки, как кажется, перевешивают остальное. В них выговорено самое главное — страшное разобщение между атомизированными индивидами и страной, разрыв естественных связей; и по афористической силе эти две строки на уровне самых больших удач поэта. Перейти от них к политической карикатуре, хотя бы такой, которая заставляет вспомнить «Капричос» Гойи, — неизбежное снижение. И вообще этика гражданского поступка оказывалась в противоречии с мандельштамовской поэтикой; первая требовала однозначности, второй однозначность была противопоказана. Как углубляло перед этим самые страшные стихи Мандельштама то, что в них совместно с безоговорочным осуждением «шестипалой неправды» звучал мотив совиновности, сопричастности: «Я и сам ведь такой же, кума!» Но что делать — поступок должен быть прямым и потому прямолинейным.
Среди глухого всеобщего молчания — один ломкий, но внезапно окрепший голос, который договорил до конца то, чего никто не решался додумать про себя.
Теперь Мандельштаму только и было оставлено времени, что оплакать в стихах смерть Андрея Белого, скончавшегося в начале 1934 года. Прежде Мандельштам высказывался и о стиле Белого, и о его антропософских увлечениях весьма резко; Белый платил ему антипатией. Но теперь он написал великолепный стихотворный реквием и самому Андрею Белому, и ушедшей вместе с ним эпохе, и утраченной, разрушенной культуре, — и, подспудно, самому себе.
13 мая 1934 года Мандельштам был арестован в своей квартире в Фурмановом переулке — той самой, которой посвящено горькое стихотворение «Квартира тиха, как бумага...», отлично (с. 261) передающее атмосферу предчувствий. «Ордер на арест был подписан самим Ягодой, — вспоминает Ахматова. — Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной, у Кирсанова, играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел «Волка»24 и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в 7 утра».
* * *
Еше не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.
В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен, —
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.
О. М.
Приговор, постигший тогда Мандельштама, оказался неожиданно мягким. Вместо расстрела, вместо лагеря — высылка в Чердынь, да еще с разрешением жене сопровождать высланного; а потом и вовсе «минус 12» — и поэт мог выбрать теплый, относительно благополучный Воронеж.
Часто спрашивают, почему так было, ищут объяснений. Да, были хлопоты: Ахматова ходила к Енукидзе, Пастернак — к Демьяну Бедному, Надежда Яковлевна — к Бухарину. Да, был пресловутый звонок Сталина Пастернаку. Только разве это имело какое-нибудь значение? И Н. А. Струве, и Б. М. Сарнов полагают, что Сталину хотелось приручить Мандельштама и поставить его себе на службу. Возможно, — только и подобные соображения едва ли могли быть решающими.
Вопрос этот связан с другим: «за что», собственно, взяли поэта повторно — через четыре года после первого ареста? Он (с. 262) не только не наделал никаких новых дерзостей — в худые минуты он пробовал воспевать Сталина. Так «за что»?
Как кажется, ответ на оба вопроса достаточно несложен. Если что Сталин умел в совершенстве, так это мстить — и выжидать для мести удобного часа. Судьба поэта, позволившего себе выпад неслыханной силы и прямоты против личности Вождя Народов, в принципе была решена, скорее всего, сразу и бесповоротно: он не должен был ходить по земле. От него не нужно было славословий: нужна была только его смерть. Но нетрудно было понять, что немедленный расстрел или даже значительный лагерный срок — это способ поднять интерес к преступным стихам, дать им резонанс. Нет, первое наказание должно выглядеть как пустяк, почти что курам на смех: большого ребенка за его проказы поставили в угол. Но он на крючке — и про него не забудут. А когда придет давно задуманная полоса Большого Террора, поэт исчезнет с лица земли незаметно: у каждого будут свои заботы.
Несмотря на мягкость приговора, арест очень тяжело обошелся Мандельштаму. «Осип был в состоянии оцепенения, у него были стеклянные глаза, — вспоминает Э. Г. Герштейн. — Веки воспалены, с тех пор это никогда не проходило, ресницы выпали. Рука на привязи». В Чердыни поэт выбросился из окна, по приезде в Воронеж болел сыпным тифом. Помрачение сознания ушло, но временами возвращалось.
Внешние обстоятельства были сугубо неустойчивыми. В 1935 году Мандельштаму было разрешено заниматься с местной молодежью литературной консультацией; он сотрудничал на местном радио, писал литературные радиопередачи (одна из них — «Юность Гёте»). Однако в 1936 году началась травля. Некто Г. Рыжманов написал о нем характерные стишки:
Подняв голову надменно,
Свысока глядит на люд -
Не его проходит смена,
Не его стихи поют.
Буржуазен, он не признан,
Нелюдимый, он — чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак...
(с. 263) «Заработки прекратились, — читаем мы в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам. — Знакомые на улицах отворачивались или глядели на нас не узнавая». В 1937 году альманах «Литературный Воронеж» причислил поэта к «банде» троцкистов, распространяющей вокруг себя «дух маразма и аполитичности». Поэт жалуется в письме к К. И. Чуковскому: «Я поставлен в положение собаки, пса... Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть».
Ахматова, приехавшая к Мандельштаму в Воронеж в феврале 1936 года, писала:
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.
Таков биографический фон последнего, очень яркого расцвета мандельштамовской поэзии. Воронежская земля, земля изгнания, увидена и воспета как целомудренное чудо русского ландшафта.
В лицо морозу я гляжу один:
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.
А солнце щурится в крахмальной нищете,
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса — почти что те...
А снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен
То же смысловое сопряжение нищеты и чистоты, тот же размер, те же рифмы — «утешен» и «безгрешен» — появляются в тех стихах, которые взяты в эпиграф для этого раздела статьи. Суровый зимний пейзаж, выступавший как метафора очистительного испытания еще в поэзии начала 20-х годов («Умывался (с. 264) ночью на дворе... «, «Кому зима — арак и пунш голубоглазый...»), служит фоном для торжественной и торжествующей темы человеческого достоинства, неподвластного ударам судьбы.
Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто сам полуживой,
У тени милостыни просит.
Но с тенью дело обстоит не так просто. Этот образ возникает в двух письмах того же времени: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень» (письмо к Ю. Н. Тынянову); «Я тень. Меня нет» (письмо к К. И. Чуковскому). О ком идет речь в стихотворении, кого это «пугает лай и ветер косит», кто это «как тень» и просит милостыни у тени? Этот антипод поэта — он же сам, только не в состоянии катарсиса, а в состоянии омрачения, справиться с которым способен только катарсис. «Не считайте меня тенью» — и одновременно — «я тень»: две правды о самом себе.
Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами...
Не признавая, и все же каждодневно ощущая себя «тенью», изверженной из мира людей и только по видимости замешкавшейся в нем, поэт проходит через свое последнее искушение: попросить милостыню у тени, поддаться иллюзорному соблазну, использовать свой дар, чтобы вернуться в жизнь. Так возникает «Ода Сталину». Вполне очевидно, что Мандельштам — какими бы противоречивыми ни были к этому времени его, может быть, уже не всегда «вменяемые» мысли — должен был причинить себе при работе над «Одой» немалое насилие; внешним его знаком было уже то, что стихи не рождались на ходу, в движении, «с голоса», как обычно, — нет, поэту пришлось засадить себя за стол. «Каждое утро О. М. садился к столу и брал в руки карандаш: писатель как писатель, — вспоминает Н. Я. Мандельштам. — Просто Федин какой-то...» С другой стороны, (с. 265) столь же очевидно, что, в отличие от жутких, откровенно мертворожденных опытов Ахматовой в официозном роде из цикла «Слава миру», это не совсем пустая версификация, а нечто, хотя бы временами, отдельными прорывами и проблесками, причастное мандельштамовскому гению.
Что, собственно, произошло? Мы уже подступались к ответу на этот вопрос в связи с характеристикой ранних описательных стихов на историко-культурные темы, вроде «Домби и сына». Поэтическая система Мандельштама дошла до такой степени строгости и последовательности, что она как бы срабатывает сама, отторгая от себя ложь, создавая между ложью и собой дистанцию, при которой ложь, независимо от намерения поэта, выступает как объект наблюдения. Поэт может пытаться принудить себя солгать, но его поэзия солгать не может.
Примечательно уже начало «Оды»:
Когда б я уголь взял для высшей похвалы -
Для радости рисунка непреложной, -
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно...
Ведь об эту же пору, на этой же ритмической волне рождается строка:
И не рисую я, и не пою...
Связь между обоими поэтическими высказываниями, вероятно бессознательная, выстроенная не рассудком и волей человека, а инстинктом художника, подмечена еще Н. Я. Мандельштам. «Когда б я уголь взял» — но ведь я-то не рисую, не беру угля, рисует углем некто другой, а я смотрю со стороны и описываю его рисунок. Несмотря на сентиментальные нотки — или как раз благодаря им, ибо когда это Мандельштам позволял себе сентиментально говорить про себя самого? — стихотворение получилось отстраненно-дескриптивным. Это сумма мотивов сталинистской мифологии, каталогизируемая так, как можно было каталогизировать представления древних народов — например, ассирийцев или египтян, так часто служивших у Мандельштама (с. 266) метафорой тоталитарного мира. Каждый мотив доведен до нечеловеческой кристальности формы, как у египетского иероглифа, до завораживающей и пугающей абстрактности. Атмосфера жути нарастает от строфы к строфе. Снова и снова возникающие «бугры голов» — это страшно само по себе, по действию поэтической логики, объективно, вне всякой зависимости от того, точно ли передает вдова поэта его задумчивое бормотанье: «Почему, когда я думаю о нем, передо мной все головы — бугры голов? Что он делает с этими головами?»
И все-таки работа над «Одой» не могла не быть помрачением ума и саморазрушением гения.
Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось —
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось...
Но затем забота о собственной судьбе отпускает поэта — и среди тягот и неурядиц последних воронежских месяцев он создает совсем свободные, совсем отрешенные стихи.
Задача была названа чуть раньше: жить, «перед смертью хорошея». А еще раньше, в «Путешествии в Армению», было описано, как рушат липу на замоскворецком дворике: «Дерево сопротивлялось с мыслящей силой, — казалось, к нему вернулось полное сознание». Эти пронзительные слова — словно эпиграф к неожиданным прорывам света в конце воронежского периода поэзии Мандельштама. Борьба за «полное сознание» на самой границе бреда, борьба за катарсис на последнем пределе срыва наполняет эти прощальные стихи, дает им драматическую пружину.
Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя -
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия...
Поздняя мандельштамовская поэтика сполна реализует ту программу «существующей только в наплывах и волнах, только (с. 267) в подъемах и лавированьях поэтической композиции», которая была теоретически развита еще в «Разговоре о Данте». Усложняется и обогащается, порой приводя к темнотам, порой триумфально выводя из них, тот прием, который мы называли выше семантическим наложением. Приходит к своему окончательному торжеству намечавшийся уже давно принцип взаимодополняющего равноправия текстовых вариантов, которые не относятся друг к другу как беловик и черновики, но сосуществуют по законам единства особого порядка, по двое или по трое вырастая на одном корню, подтверждая друг друга, но и споря друг с другом. Более чем когда-либо прежде, это поэтика противоречия.
Противоречие, особенно важное для понимания во многом загадочной смысловой глубины возникших тогда «Стихов о неизвестном солдате», — это спор между личностью поэта, умевшей «топорщиться», да еще как («Нрава он был не лилейного...»), и глубокой волей «быть как все», жить и гибнуть с «гурьбой и гуртом», не отделять своей судьбы от судьбы безымянных. Такая воля выявилась именно у позднего Мандельштама: «Всех живущих прижизненный друг», — сказал он о себе, этим он хотел быть. Окончательная, ничем не прикрашенная анонимность человеческой участи: «миллионы убитых задешево», — вся прежняя поэзия не знала и не могла знать такой темы. «Истертый год рожденья» — уже не знаменательная дата начала индивидуальной биографии (вспомним давнюю статью «Конец романа»!), а нечто совсем иное: бирка в кулаке, соединяющая призывника с поколением, с товарищами по судьбе, растворяющая его в их потоке. Человеческая мера взорвана и развеяна «молью нулей». Настоящее — безымянная мука голода, холода и безразличной к человеку смерти под неприветливым дождем: «пасмурный, оспенный и приниженный гений могил». Будущее — «воздушная яма». Но тягой контраста и конфликта в стихотворение втягивается катарсис, не объяснимый никаким рационалистическим толкованием, но пронизывающий весь его состав:
...От меня будет свету светло.
(c. 268)
»Небо крупных оптовых смертей», окопное небо, названо не только неподкупным, но и целокупным, и это слово повторено в величавой элегии «К пустой земле невольно припадая...» — в обоих случаях через смерть дается образ некоей строгой гармонии, которая несовместима со счастьем, но глубже счастья и, может быть, дороже, нужнее сердцу, чем счастье. А в эпизоде «Для того ль должен череп развиться...» время обращено назад, к своему чистому истоку, так что уже после гибели, после входа «войск», после конца победоносно является начало — непорочное и многодумное сияние младенческого лба.
Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска —
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится...
И в другом стихотворении этой поры, написанном легкими, короткими строчками, речь идет о встрече со светом — уже где-то за пределами собственного существования:
О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем!
А уже упомянутая элегия «К пустой земле невольно припадая...», едва ли не самый строгий и высокий образец любовной лирики нашего столетия, славит призвание — «впервые приветствовать умерших». Другие стихи, пронизанные образностью Тайной Вечери («Небо Вечери в стену влюбилось...») и Распятия («Как светотени мученик Рембрандт...»), словно замыкают круг, начатый давным-давно юношеским стихотворением Мандельштама о Голгофе.
Было бы утешительнее, пожалуй, если бы на этом последнем, удивительно чистом взлете голос поэта навсегда оборвался. Но случилось не совсем так.
16 мая 1937 года истек срок трехлетней ссылки. Надежда вернуться в жизнь людей, казалось бы, духовно уже (c. 269) преодоленная, снова подступает к полуживому человеку, чтобы мучить и унижать его, отнимая дорого доставшийся покой отчаяния. Поэт снова увидел Москву, куда к нему незамедлительно приехала Ахматова. Однако новые впечатления были мрачными. «Чего-то он здесь не узнавал, — свидетельствует Э. Г. Герштейн. — И люди изменились... все какие-то, — он шевелил губами в поисках определения, — ... все какие-то... поруганные». Весьма скоро, однако, выяснилось, что в Москве ему жить никто не даст; прописка как раз становилась фундаментальной советской категорией. Временно он обосновался с женой в Савелове, возле Кимр (там же довелось жить, между прочим, и высланному Бахтину). В Москве для него остается открытым дом Шкловских, он навещает Пастернака в Переделкине. Для сбора денег на самые насущные нужды он дважды приезжал в Ленинград — осенью 1937 года, когда общался с умным переводчиком и критиком Валентином Стеничем и особенно со старым другом М. Л. Лозинским, и в феврале 1938 года, когда Стенич был уже арестован, а смертельно перепуганный Лозинский отказался принять. «Время было апокалипсическое, — вспоминает Ахматова. — Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами».
Таков биографический фон савеловских стихов — последних стихов Мандельштама, которые мы знаем. Едва ли будет ханжеством сказать, что они производят грустное впечатление, хотя власть над словом до конца не изменяет поэту. В чувственном лепете возникает очень плотский и притом бравурный, какой-то купецки-кустодиевский, стилизованный под фольклор образ русской красавицы: это Эликонида Попова, жена актера Яхонтова. Агрессивное здоровье этого образа противостоит хрупкой обреченности самого поэта, жаждущего в изнеможении прислониться к чужой силе. (Трудно не вспомнить финал пьесы Ионеско «Носороги», где герой — единственный, кто отказался сменить образ человеческий на носорожий, — смотрит в зеркало с поздним раскаянием и жгучим стыдом за свою неловкую немощь, контрастирующую с толстокожей мощью оносорожившихся.) Реальная Лиля Попова, с дневником которой нас недавно познакомила В. Швейцер, не сводима к этому носорожьему началу, хотя не чужда ему. «Произносящая ласково // Сталина имя громовое...» — эти строки сходятся с тем, что известно о (c. 270) сентиментальной приверженности Поповой почитанию вождя. И все же есть своя правильность в том, что «имя громовое» в последний раз появляется в стихах Мандельштама именно так: овеянное запахом блуда. Еще раз — какой бы ложный шаг ни делал поэт, его поэзия солгать не может.
Впечатления наши от савеловского эпилога были бы, очевидно, более радостными, если бы сохранилось написанное тогда же стихотворение против смертной казни, в котором поэт возвращался к одному из самых глубоких мотивов своей мысли и жизни, не сводимому у него к тривиальной «гуманности».
А между тем судьба идет своим путем. Истомившиеся от бездомности и безденежья Мандельштамы неожиданно получают литфондовскую милость — путевки в дом отдыха в Саматиху. Но именно там поэта подстерегал неминуемый повторный арест, настигший его 2 мая 1938 года.
Приговор ОСО... Эшелон арестованных покидает Бутырскую тюрьму... прибывает в транзитный лагерь под Владивостоком... В последний раз мы слышим голос Мандельштама в единственном письме из этого лагеря:
»Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.
Родная Наденька, жива ли ты, голубка моя?..»
В том же лагере поэт и умер — 27 декабря 1938 года; как известно, эта официальная дата вызывала некоторые сомнения, но в настоящее время подтверждена документами.
На свете оставалось не так уж много людей, помнивших самое его имя. Несколько человек хранили его неопубликованные стихи, пряча и перепрятывая списки, вытверживая текст наизусть, ревниво проверяя свою память.
С неожиданной точностью реализовалась метафора из давней статьи:
»Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы... Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее».
Все было кончено. Все было впереди.
(c. 271) Во второй половине 50-х годов, едва отпустил страх, списки мандельштамовских стихов начинают расходиться по рукам, поначалу в сравнительно узком кругу, служа словно заветным паролем для тех, кто хранил память культуры. Но вот оказывается, что слух новых, вступающих в жизнь поколений от рождения подготовлен к музыке этих стихов, настроен на нее. Что акустика времени заставляет эту музыку звучать все громче, все яснее. Что у поэта все больше, как сказал бы он сам, «провиденциальных собеседников», действительно всерьез живущих его стихами. Для многих мандельштамовская поэзия становится формирующим, воспитующим переживанием. Ее воздействие выходит за пределы русской культуры — мы уже упоминали выше такое явление, как Пауль Целан, сделавший образ Мандельштама одним из символов европейской поэтической традиции.
Весть мореплавателя нашла своих адресатов. И все же вспомним, что даже куцая книжка «Библиотеки поэта» никак не могла выйти до самого 1973 года, да и то лишь с чудовищной статьей А. Л. Дымшица, в которой переврано все, начиная с места рождения Мандельштама и кончая временем его смерти, и забавно отмечено, что «одним из самых серьезных заблуждений Мандельштама была мысль об особой миссии поэта и о его особом поэтическом языке...»25 Что до окончательной юридической реабилитации Осипа Эмильевича, для нее пришло время только в 1987 году.
Да что — сам напророчил в «Четвертой прозе»: «Судопроизводство еще не кончилось».
* * *
Сквозная тема Мандельштама, обеспечивающая единство его творчеству от начала до конца, — это клятва на верность началу истории как принципу творческого спора, поступка, выбора.
Вспомним, что еще в 20-е годы поэт пристально вчитывался в книгу П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины». (c. 272) Здесь не место говорить о самой книге; но вот слова, которые Мандельштам должен был читать с живым сочувствием, с внутренним согласием и которые много поясняют у него самого: «Мы не должны, не смеем замазывать противоречие тестом своих философем! Пусть противоречие остается глубоким, как есть». Чуть ниже приятие противоречия названо «бодрым», то есть отождествлено с витальностью мысли, чуть ли не физиологически понятой, — с победой над «склерозом», как сказал бы Мандельштам на языке своего «Разговора о Данте». Или прибегнем к космологической метафоре, важной для эпохи и близкой именно Флоренскому: столкновения «да» и «нет», перепады жара и холода — единственное, что спасает бытие от энтропии, форму от хаоса, поскольку выравнивание температуры, приведение всего сущего к безразличной теплоте, не горячей и не холодной, есть, согласно второму началу термодинамики, «тепловая смерть вселенной». Но Мандельштам тревожился не столько за вселенную, сколько за историю, прекращение, энтропийное замирание которой внушало ему больший ужас, чем все катастрофы самой истории. Пока кипит гнев и спор, пока живо удивление, жива история. Отсюда характерная для поэта парадоксальная апология «литературной злости» некрасовской поры русской словесности, подобие которой он увидел в крутом, несговорчивом нраве тех новгородских икон, на которых «сердятся» рядами изображенные заказчики, «спорщики и ругатели», «удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы». Здесь каждое слово важно: есть на что, значит, сердиться, есть чему удивляться, есть о чем спорить, раз есть событие. Синоним события — поступок («Чтоб звучали шаги, как поступки...»).
Но вот если «буддийское» отвлеченное безразличие или «египетское» чиновничье самодовольство сможет «тупым напильником» притупить острие готического шпиля, знаменующего напряженность события-поступка, бросающего вызов пустоте, — это беда горше всех бед, и о ней у поэта сказано: «подступает глухота паучья».
Одно из противоречий, какими живо творчество Мандельштама, касается собственной природы этого творчества. (c. 273) «Мы — смысловики», — говорил поэт, и слово это явно не брошено наобум. Его обеспечивает исключительная цепкость, с которой ум поэта прослеживает, не отпуская, одну и ту же мысль, то уходящую на глубину, то выступающую на поверхность, ведет ее из стихотворения в стихотворение, то так, то эдак поворачивает в вариантах. Его обеспечивает высокая степень связности, которую открывают пристальному взгляду самые, казалось бы, шальные образы и метафоры, если не лениться рассматривать их в «большом контексте». Но тот же поэт сказал о «блаженном, бессмысленном слове», и очевидно, что иррациональное начало в его поэзии не может быть сведено на нет никаким умным толкованием. Что во всем этом отличает Мандельштама от всесветного типа поэта XX века, так это острое напряжение между началом смысла и «темнотами». Это не беспроблемный симбиоз, в котором эксцессы рассудочности мирно уживаются с эксцессами антиинтеллектуализма. Это действительно противоречие, которое «остается глубоким, как есть». И установка «смысловика», и жизнь «блаженного, бессмысленного слова» остаются, оспаривая друг друга, неожиданно меняясь местами.
Поэтому Мандельштама так заманчиво понимать — и так трудно толковать.
ПРИМЕЧАНИЯ:
* Судьба и весть Осипа Мандельштама // Осип Мандельштам. Сочинения в 2-х томах, т. 1. М., 1990, с. 5-64.
- Как известно, в поэтическом манифесте Верлена описание того, чем должна быть поэзия, завершается словами: «Все прочее — литература» (пастернаковский перевод, в случае этой строки точный до буквальности).
- Далеко не полный перечень важнейших работ о Мандельштаме, постоянно используемых или служащих предметом подразумеваемого спора на протяжении статьи: Brown 1973; Тоддес 1974; Taranovsky 1976; Ronen 1979; Dutlli 1985; Freidin 1987; Струве 1988.
- См.: Мандельштам 1978; Ахматова 1988; Кузин 1987; Штемпель 1987.
- Герштейн 1986.
- В отброшенном варианте поэтического портрета Ахматовой («Вполоборота, о печаль...») Федра была названа «отравительницей»; это нормальный для поэтики Мандельштама способ соединять данные традицией сюжеты в единый метасюжет (см. ниже о стихотворении «Домби и сын»).
- Заметим, что Мандельштам в течение всей своей жизни последовательно игнорировал Гейне, что на фоне рецепции Гейне в русской лирической традиции от Тютчева и Фета через Блока и Анненского вплоть до 20-х годов выглядит контрастом. Тривиально рассуждая, можно было бы ожидать, что у Гейне и Мандельштама найдутся сближающие моменты — от еврейской судьбы и еврейской впечатлительности до схожей позиции в литературе (Гейне — постромантик, Мандельштам — постсимволист).
- И, конечно, Чаадаева, Герцена, Леонтьева и Розанова — но те «абстрактным бытием» не занимались.
- Гаспаров 1970, с. 5-37.
- Конечно, у Ахматовой чувственная пластика и бытовая деталь действительно имеют первостепенную важность. Но у нее, как и у раннего Кузмина, все это сведено к назначению театральной декорации, на фоне которой демонстрирует свое инсценируемое бытие лирическое «я». Оно оттеняется вещью, а не сливается с ней, как у Пастернака.
- Вспомним слова В. Пяста о Вяч. Иванове, проясняющие проблему, немаловажную и для понимания Мандельштама. «Читатель, приступающий к этому поэту, чувствует себя как-то удивительно странно. Где то, что он привык видеть и слышать в литературе, как и в жизни? Где все окружающие его изо дня в день предметы? Он их привык встречать на каждом шагу, и, право, без присутствия их, хотя бы молчаливого, скрытого в заднем плане стихотворения, — вначале обойтись не может. Скажет Пушкин: «Я помню чудное мгновенье», — и во всем стихотворении не упомянет ни одной вещи из наличной, окружающей это мгновение обстановки; но никому и в голову не придет спросить себя, где это происходило. Отнюдь не потому, чтобы это было для нас неважно, но потому, что где-то между строчек эта обстановка вошла в это стихотворение... Ничего подобного не найдет он у Вячеслава Иванова... Стихи этой книги «видны насквозь»... в них самих нет заграждающего зрение заднего фона» (Гофман ред. 1909, с. 265-266).
- Например, сознанию Н. Я. Мандельштам свойственно видеть в особенно черных красках Вяч. Иванова. Благодаря этому в ее интерпретации исчезает то здоровое и естественное соединение притяжения и отталкивания, которое испытывал к старшему поэту Мандельштам.
- Мы сознательно обходим вопрос о Гумилеве. Живущий в его поэзии идеал непрерывного героического самопроявления, недаром так импонировавший романтикам 20-х годов вроде Н. Тихонова или Багрицкого, по своей сути утопичен, как бы ни оправдывала его гумилевская биография. Ср. у Н. Я. Мандельштам: «Акмеисты отказались от культа поэта и «дерзающего человека», которому «все позволено», хотя «сильный человек» Городецкого и отчасти Гумилева унаследован от символистов. Сила и смелость представлялись Гумилеву в форме воинской доблести (воин и путешественник). Мандельштам мог понять только твердость того, кто отстаивает свою веру».
- См.: Ходасевич 1939.
- Вспомним, что Цветаева рисует бытие Андрея Белого или Волошина без малейшего чувства дистанции, включаясь в их игру, «подыгрывая» им, доводя до конца от них исходящую стилизацию реальности. Пастернак с некоторым преувеличением, но не без основания утверждал, что «ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли быть... символисты* («Люди и положения»).
- Ср. запись С. Б. Рудакова от 1 июля 1935 года (Мандельштам о Гумилеве): «Я говорил ему, поменьше Бога в стихах трогай (то же у Ахматовой: «Господь», а потом китайская садовая беседка)» (Герштейн. Указ, соч., с. 243) Общеакмеистский упрек символизму здесь переадресован самим акмеистам — даже их строгость недостаточна.
- Вспомним, что именно с идеей единства Мандельштам связывает в «Шуме времени» свое отроческое переживание марксизма. Вспомним также, с какой остротой поставлен вопрос о единстве русской литературы в статье 1922 года «О природе слова», с каким сочувствием в этой же статье сказано о попытке Бергсона «спасти принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений». Принцип единства противостоит для Мандельштама аморфному эволюционизму, подменяющему связь времен «дурной бесконечностью» прогресса.
- Это решение — не такое уж само собой разумеющееся: начало века в России — время бурного развития еврейской литературы, как на иврите (которому Мандельштам отказался учиться в отрочестве) и на идише, так, отчасти, и на русском языке. С сионистских тем начинал юный С. Маршак, мандельштамовский сверстник.
- Нечто подобное мы встретим в «Оде Сталину» 1937 года, о чем ниже. Ода тоже основана на принципе каталога. Разница, конечно, в том, что никакая внешняя сила не принуждала Мандельштама писать стихотворение 1914 года, и корысти ему тоже не было никакой. Интересно, однако, что некоторая возможность опытов в таком роде возникает из самой поэтике Мандельштама (чуть ли не из родовой памяти поэзии как таковой, издревле служившей этикетному славословию), — хотя бы на периферии этой поэтики, да еще так, что все немедленно оказывается оспорено и взято назад самим поэтом.
- В «Оде Сталину» ту же функцию ухода от простой утвердительной формы выполняет вводимое с первой же строки сослагательное наклонение.
- Позднее цитата будет комически подчеркнута: «У ворот Ерусалима // Хомякова борода».
- Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных // Я убежал к нереидам на Черное море...» Вехи пути: Харьков и Киев, где он встретил будущую спутницу своей жизни Н. Я. Хазину, Коктебель, где он не ужился с Волошиным, и Феодосия, где он был арестован врангелевской контрразведкой и спасен стараниями полковника Цыгальского — того самого, с которым связан образ увечного двуглавого орла в «Шуме времени», — а также Волошина и Вересаева; Батуми, где он был еще раз арестован береговой охраной меньшевистского правительства и освобожден по милости просвещенного жандарма; наконец, Тифлис.
- Это неоднократно и едва ли удачно описывали как приближение к футуризму (впрочем, контакты Мандельштама с группой «Гилея» — факт, который необходимо учитывать). Поэтика Мандельштама — понятие более конкретное и потому более ясное, чем «акмеизм вообще» или «футуризм вообще». Футуристов Хлебникова и Маяковского поэт уважал — как, впрочем, и неоклассика Ходасевича.
- Древний Египет — для Мандельштама всегда образ несвободы, одновременно жестокой и чиновничьи-самодовольной («Бессмертны высокопоставленные лица»), а потому конца истории как пространства для выбора. Здесь отчасти играли роль библейские коннотации «Египта, дома рабства». В 1931 году поэт говорил отцу Э. Г. Герштейн о Сталине: «...десятник, который заставлял в Египте работать евреев» (ср. библейский рассказ о том, как Моисей «увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его» — Исход 2, 11).
- Домашнее название стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков...»
- См.: Мандельштам 1973а, с. 52.
Из «Поэты»