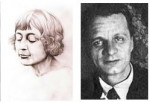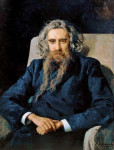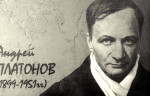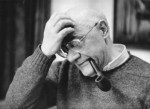Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неё,
Она ж за ними бегает по следу.
Вы здесь
Читальный зал
Засуха (Николай Заболоцкий)
О солнце, раскаленное чрез меру,
Угасни, смилуйся над бедною землей!
Мир призраков колеблет атмосферу,
Дрожит весь воздух ярко-золотой.
Над желтыми лохмотьями растений
Плывут прозрачные фигуры испарений.
Как страшен ты, костлявый мир цветов,
Сожженных венчиков, расколотых листов,
Обезображенных, обугленных головок,
Где бродит стадо божиих коровок!
В смертельном обмороке бедная река
Чуть шевелит засохшими устами.
Украсив дно большими бороздами,
Ползут улитки, высунув рога.
«Третье царство» как попытка моделирования мира «нового» праведничества: А. Платонов и М. Цветаева
В статье осуществляется попытка интерпретации картин мира М. Цветаевой и А. Платонова как примеров «нового» праведничества.
После революции 1917 года в России началась эпоха новых «героев», «новых людей». Русская литература ХХ века незамедлительно отреагировала на произошедшие изменения и включилась в процессы социального конструирования «коммунистической реальности», мира «новых» праведников. В основе подобного конструирования, по мнению Вал. А. и Вл. А. Луковых, лежат «тезаурусы»[1] или, иными словами, сгустки особым образом структурированных знаний, представлений, информационных посланий, ориентирующих нас на определенную иерархию ценностей. Именно тезаурусный подход, на наш взгляд, дает возможность рассчитывать на адекватную интерпретацию картины мира таких важных для истории русской литературы ХХ века писателей, как М. Цветаева и А. Платонов.
«Мир входит в сознание человека в определенной последовательности, которую определяет уже сложившаяся структура тезауруса (его «топика») как некий фильтр, отбирающая оценивающая и преобразующая… многообразные сигналы извне. Центральное место занимает образ самого себя (самосознание) и другого человека…»[2] — думается, эти слова Вал. А. и Вл. А. Луковых предельно ясно обозначают исходную позицию ученого-исследователя, собирающегося анализировать художественное восприятие действительности через литературное творчество.
Бог не хочет быть внешним фактом (В. Соловьев)
...Смысл мира есть мир, согласие, единодушие всех. Это высшее благо, когда все соединены в одной всеобъемлющей воле, все солидарны в одной общей цели. Это есть высшее благо, и в этом же вся истина мира. В раздоре, в отделении — нет истины. Мир стоит и держится и существует лишь вольным или невольным единением всех. Где то существо, где та вещь в мире, которая может устоять в своей отдельности? А если ничто не может устоять в своей отдельности, значит — эта отдельность несостоятельна, значит, она не истина, значит, истина в противоположном: во всемирном и всемирном единении...
«Душевный бедняк» Платонов
Человек вы — талантливый, это бесспорно, бесспорно и то, что вы обладаете очень своеобразным языком… Но, при неоспоримых достоинствах работы вашей, я не думаю, что её напечатают, издадут. Этому помешает анархическое ваше умонастроение, видимо свойственное природе вашего «духа». Хотели вы этого или нет, — но вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический, это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры… Максим Горький, писатель (письмо А. Платонову, 1929 год).
Травля Андрея Платонова
Активная травля Андрея Платонова началась уже в 1929 году, когда его рассказ «Усомнившийся Макар» стал мишенью критики лидера РАПП Авербаха:
Рассказ Платонова — идеологическое отражение сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии. В нём есть двусмысленность, в нём имеются места, позволяющие предполагать те или иные «благородные» субъективные пожелания автора. Но наше время не терпит двусмысленности; к тому же рассказ в целом вовсе не двусмысленно враждебен нам.
Отрицательная революция Андрея Платонова (Артемий Магун)
Наследие русской революции 1917 года — и в смысле достижений и шансов, и в смысле поставленных проблем, и в смысле опасностей — до сих пор остается во многом неосвоенным. Можно сказать, что оно было похоронено в процессе катастрофического вырождения революции и вытеснено последующим противостоянием одинаково неинтересных идеологий: догматического эпигонского марксизма и догматического эпигонского либерализма. Поэтому так важно выявление нетривиальных рефлексивных ходов и понятий, которые возникли в результате и по поводу этого события. Причем необходимо читать тексты прошлого не свысока, глазами всезнайки (как это чаще всего делают, пытаясь интерпретировать Платонова исходя из идей его времени, например обнаруживая у него спор материализма с идеализмом — кому он сейчас в этом виде интересен?), а учась у них, задавая им современные вопросы. Андрей Платонов представляется мне одним из центральных интеллектуалов периода русской революции, который был не просто прозаиком, но ярким диалектическим мыслителем, всегда уделявшим особое внимание революционной событийности как горизонту своей жизни и творчества.
Жажда нищего. Видения истории (Андрей Платонов)
Был какой-то очень дальний ясный, прозрачный век. В нем было спокойствие и тишина, будто вся жизнь изумленно застыла сама перед собой.
Был тихий век познания и света сияющей науки.
Тысячелетние царства инстинкта, страсти, чувства миновали давно. Теперь царствовал в мире самый юный царь — сознание, которое победило прошлое и пошло на завоевание грядущего.
Это был самый тихий век во вселенной: мысль ходила всюду неслышными волнами, она была первою силой, которая не гремела и не имела никакого вида.
Века похоронили древнее человечество чувств и красоты и родили человечество сознания и истины. Это уже не было человечество в виде системы личностей, это не был и коллектив спаявшихся людей самыми выгодными своими гранями один к другому, так что получилась одна цельная точная математическая фигура.
На земле, в том тихом веке сознания, жил кто-то Один, Большой Один, чьим отцом было коммунистическое человечество.
Большой Один не имел ни лица, никаких органов и никакого образа — он был как светящаяся, прозрачная, изумрудная, глубокая точка на самом дне вселенной — на земле. С виду он был очень мал, но почему-то был большой.
Андрей Платонов. Главы из книги (Алексей Варламов)
«Мои товарищи по работе называют меня то ослом, то хулиганом. Я им верю», — писал Андрей Платонов в 1920 году в статье, которая называлась «Ответ редакции „Трудовой армии” по поводу моего рассказа „Чульдик и Епишка”». И хотя в тех словах было много иронии и даже ёрничества, а Платонов, по воспоминаниям Августа Явича, бывал в молодости «язвителен, придирчив, особенно как выпьет», дело не только в особенностях его нрава. Дело в самом рассказе, из-за которого Платонов и написал свой резкий ответ.
Короткий, меньше двух страниц, редко становящийся объектом научных изысканий, «Чульдик и Епишка» не имеет ничего общего ни с ранней лирикой, ни с публицистикой Платонова. Трудно даже представить, чтобы человек, который в стихах собирался то целовать горящую от любви вселенную и призывал ее сорвать с себя все одежды и тогда мертвые восстанут во гробах, то намеревался убивать ее, невесту, душу голубую, машинами («для вселенной бьет последний час»), который строил планы, как потушить одно солнце и зажечь другое — железное, осушая до дна небесные тайны и давая людям железные души, — как этот сверхчеловек вдруг отвлекся от грандиозных апокалиптических заданий, спустился с небес на землю и сочинил текст такого примерно содержания.
Доверчивая сила жизни (Ирина Лобановская)
Единственный сын Платоша... Почему судьба так жестока?.. Судьба... В виде Кремлевского правителя и вершителя жизни советской, "друга детей" и "отца народов"... Какой антисоветский заговор?! Сын - Платоша... Единственный, пятнадцатилетний... Его удалось вернуть из лагеря только через несколько лет. Тяжело больного туберкулезом. Отец - великий писатель Андрей Платонов (настоящая фамилия - Климентов) заразился от сына и умер. Почему судьба так жестока?..
Да, ее баловнем он не оказался. Старший сын в огромной полунищей семье железнодорожного слесаря - десять детей. Окраина Воронежа. Смерть матери и забота о братьях и сестрах. Рано, в четырнадцать лет, начал работать - слесарем, литейщиком, помощником машиниста. Позже трудился мелиоратором. И откуда она взялась, как родилась-появилась - эта странная, необъяснимая тяга писать? Сначала - стихи, потом началось увлечение публицистикой. Журналистом Андрей Платонов оставался почти всю жизнь.
Человек абсурда (Альбер Камю)
Ставрогин если верует, то не верует, что он верует.
Если же не верует, то не верует, что не верует.
«Бесы»
«Мое поприще, — сказал Гёте, — это время». Вот поистине слова человека абсурда. В самом деле, кто он такой? Он тот, кто ничего не делает ради вечности, хотя и не отрицает ее. Не то что бы тоска по вечному была ему чужда. Но он предпочитает ей мужество и здравомыслие. Первое учит его жить без зова свыше и довольствоваться тем, что у него есть, второе уведомляет о поставленных ему пределах. Убежденный в том, что его свобода ограничена во времени, что у его бунта нет будущего и его сознание бренно, он проживает приключение своей жизни в отпущенные на нее сроки. Тут его поприще, тут поле его деятельности, изъятой им из-под чьего бы то ни было суда, кроме его собственного. Жизнь более долгая не может означать для него другой жизни. Это было бы нечестно. Я уж не говорю о той смехотворной вечности, которую именуют жизнью в памяти потомков. Госпожа Ролан вверяла себя этой памяти. За такую опрометчивость ей был преподан урок. Потомки охотно приводят ее слова, но забывают высказать о них свое суждение. Память потомков равнодушна к госпоже Ролан.
Рассуждение об абсурде (Альбер Камю)
Есть лишь один поистине серьезный философский вопрос — вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой или она того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос философии. Все прочие вопросы — имеет ли мир три измерения, существует ли девять или двенадцать категорий духа — следуют потом. Они всего лишь игра; сперва необходимо ответить на исходный вопрос. И если верно, что философ, дабы внушить уважение к себе, должен, как хотел того Ницше, служить примером для других, нельзя не уловить важность этого ответа — ведь он предшествует бесповоротному поступку. Для сердца все это непосредственно ощутимые очевидности, однако в них надо вникнуть глубже, чтобы сделать ясными для ума.
Изнанка и лицо (Альбер Камю)
Жану Тренье
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эссеистика, объединенная в этом томе, писалась в 1935–1936 годах (мне тогда было двадцать два года) и была опубликована мизерным тиражом в Алжире год спустя. Это издание давно уже стало библиографической редкостью, и я упорно отказывался от переиздания «Изнанки и лица».
В моем упрямстве не было никакой тайны. Я ни на йоту не отказываюсь от того, что запечатлено в этих текстах, но их форма всегда казалась мне неуклюжей. Предрассудки, связанные с искусством, которые я мимовольно взращивал в себе (к этому я еще вернусь), долго мешали мне решиться на переиздание. Но, быть может, виной тому было тщеславие, внушившее мне, что все мои другие книги безупречны? Нужно ли говорить, что дело было не в этом? Просто я более чувствителен к промахам «Изнанки и лица», чем к известным мне недостаткам прочих моих книг. Но тогда необходимо признать, что моя первая книга затрагивает и частично выявляет предмет, наиболее близкий моему сердцу. Покончив с вопросом о художественной ценности этой небольшой книги, я могу сознаться, что для меня очень важна такая ее ценность, как ценность свидетельства. Я говорю сугубо о себе, так как именно для меня она о многом свидетельствует и именно от меня требует верности, трудность и глубина которой ведома мне одному.
Творчество и свобода. Критическое эссе (Альбер Камю)
Защита свободы
Недавно мне предложили написать статью для брошюры об Анри Мартене, которую, как мне сообщили, готовят, в частности, редакторы «Тан модерн». Я отказался. Причина моего отказа проста: защищать свободу в одном хоре с «Тан модерн» и их сторонниками — значит навсегда скомпрометировать ее ценности. Только если на карту поставлена человеческая жизнь (как в случае с супругами Розенберг, когда долг всех без исключения добиваться для них помилования), можно не обращать внимания на путаницу в понятиях. Во всем же остальном нам необходима ясность, и Анри Мартену больше, чем кому бы то ни было, ибо за любую недосказанность он платит лишними днями заключения.
Только внеся некоторую ясность в его дело и устранив запутавшие его недоразумения и двусмысленности, в коих оно тонет, становится возможным занять определенную позицию. Моя позиция, которую я хотел бы здесь обосновать, коль скоро меня об этом просят, состоит в том, что Анри Мартена необходимо освободить.
Красота и свобода в творчестве А. Камю (К. Долгов)
Выдающийся французский писатель, эстетик, философ, моралист Альбер Камю (1913–1960) был наряду с Жан-Полем Сартром на протяжении нескольких десятков лет «властителем дум» прогрессивной французской и европейской интеллигенции. Ему принадлежат: блестящие лирические эссе «Изнанка и лицо», «Бракосочетания», философский трактат «Миф о Сизифе», «Письма к немецкому другу», историко-философские сочинения «Бунтующий человек», «Злободневные заметки», очерки «Изгнание и царство», «Лето», повести «Посторонний», «Падение», романы «Чума», «Счастливая смерть», «Записные книжки», пьесы «Калигула», «Недоразумение», «Осадное положение», «Праведные», «Бунт в Астурии», а также инсценировки по романам Достоевского «Бесы», Фолкнера «Реквием по монахине» и др., до сих пор вызывающие огромный интерес читателей и зрителей многих стран мира, в том числе и нашей страны. Органическое слияние удивительного литературного дарования с философской глубиной позволило Камю создать свой литературно-философский стиль художественного исследования и осмысления современной эпохи, современного человека, его сознания и самосознания, высших человеческих ценностей, смысла жизни, сущности истории, культуры и цивилизации.
Мотивы «Отчуждение», «Скука», «Пустота» в «Чевенгуре» и «Котловане» А. Платонова (Ен Ук Ким)
Статья посвящена мотивам «отчуждение», «скука», «пустота», которые занимают центральное место в трагическом мироощущении А. Платонова. В статье рассматривается отчуждение человека в «Чевенгуре» и «Котловане» писателя, которое возникает в результате непримиримого конфликта между внутренным и внешним миром человека. Кроме того, анализируется экзистенциалистическая характеристика мотива «отчуждение», который связан с метафизической «скукой» и «пустотой».
Характерной чертой существования человека в обществе и государстве, по Платонову, является ощущение бездомности и ненужности в мире. Человек чувствует себя отчужденным, затерянным, одиноким и заброшенным в этот мир. Мотив отчуждения пронизывает все творчество Платонова, поэтому во всех его произведениях царит, прежде всего, ощущение тоски, скуки, одиночества, которым живут его герои. Детальную разработку данные мотивы получают в творчестве А. Платонова конца 20-х - начала 30-х ги/, особенно в таких произведениях, как «Чевенгур» и «Котлован».
Человек (Максим Горький)
I
... В часы усталости духа, - когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом, когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь вперед, - в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ Человека.
Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует - вперед! и - выше! - трагически прекрасный Человек!
Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них - лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в моменты утомленья - творит богов, в эпохи бодрости - их низвергает.
Дуэль (Антон Чехов)
I
Было восемь часов утра - время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой, душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреич Лаевский, молодой человек лег двадцати восьми, худощавый блондин, в фуражке министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленко.
С большой стриженой головой, без шеи, красный, носастый, с мохнатыми черными бровями и с седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление бурбона и хрипуна, но проходило два-три дня после первого знакомств, и лицо его начинало казаться необыкновенна добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон. эго был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на "ты", всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей; всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен, и водились за ним только две слабости: во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускною грубостью, и, во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником.
Сознание - это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть (Мераб Мамардашвили)
Традиционный, "внутренний" путь естественнонаучного изучения сознания идет от исследования мозга и его структур. Эти исследования все более утончаются, и сегодня существуют электронные средства и методы анализа, о которых прежде и не мечтали. Но, может быть, более эффективны другие, "внешние" пути анализа сознания с помощью моделей. Специалисты по информатике, когитологии и когнитивной психологии пытаются моделировать или имитировать некоторые функции мышления, используя для этого современный научный инструментарий (микропроцессоры высокого быстродействия, компьютерные томографы, сверхчувствительные датчики, новое поколение математических программ и т.д.). Создаются сложные нежесткие модели, по поведению которых, в особенности, если оно неожиданно и не предсказывалось при построении самой модели, пытаются узнать что-то новое.
Бибихин, Хайдеггер, Палама в проблеме энергии (Сергей Хоружий)
Доклад на международной конференции «Философское наследие В.В. Бибихина»
В статье анализируется трактовка проблемы энергии в философии В.В.Бибихина. В первую очередь разбирается освещение Бибихиным богословия Божественных энергий св. Григория Паламы и делается ряд критических замечаний по поводу этого освещения. Также проводится сопоставление позиций Бибихина с концепцией энергии в философии Хайдеггера.
Проблема энергии — несомненно глубинная и стержневая для философской мысли Владимира Вениаминовича Бибихина. Но она также является глубинной и стержневой в гораздо более широком плане. Как бы мы ни оценивали современную философскую ситуацию, в ключе мажорном, как обращение к Другому Началу, или в минорном, как философское безвременье, — но с энергией в ней связываются крупные ожидания, энергию видят одним из главнейших принципов нового философского дискурса, который должен сменить оставленный классический язык философии (если выразиться по Бибихину). При этом, однако, в философском понимании энергии множество открытых вопросов и практическое отсутствие прочного современного фундамента.
Входя в мир Бибихина (Сергей Хоружий)
Онтология и дискурс: как думается, именно в этих двух планах, проблемных полях, пространствах мысли, должно будет в первую очередь развертываться будущее осмысление философского дела Владимира Вениаминовича Бибихина. Онтология, Philosophia prima, Metaphysica generalis - эти имена звучат сегодня архаикой. В этом свои причины, своя оправданность; однако неотменимым остается и то, что эти формы мысли - классика. И это значит, что они всегда сохраняют право и возможность - а, может быть, и необходимость? - своего присутствия в любом времени: в новом и непредсказуемом облике.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »