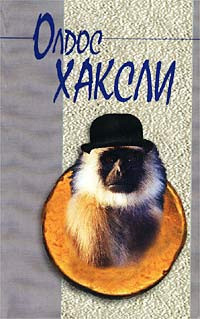Рассказчик
Бывают минуты — и это одна из таких минут, — когда мир кажется прекрасным, как нарочно, как будто все вокруг решило продемонстрировать тем, у кого открыты глаза, свою сверхъестественную реальность, которая лежит в основе всех внешних ее проявлений.
Губы доктора Пула шевелятся; мы слышим его шепот:
Любовь, восторг и красота
Под солнцем будут жить всегда.
Они сильнее нас — ведь мы
Не терпим света, дети тьмы.
Доктор Пул поворачивается и идет ко входу в сад. Прежде чем открыть калитку, он осторожно оглядывается вокруг. Вражеских соглядатаев не видно. Успокоившись, он выскальзывает из калитки и сразу сворачивает на тропинку, вьющуюся меж дюнами. Губы его снова шевелятся.
...Я — мать твоя Земля;
В моих холодных венах вплоть до жилки
Громаднейшего дерева, чьи листья
Дрожали в воздухе морозном, радость
Струилась, словно в человеке кровь,
Когда с груди моей ты тучей славной
Поднялся, радости чистейший дух.
С тропинки доктор Пул выходит на улочку; по ее сторонам стоят небольшие дома; рядом с каждым — свой гараж, вокруг каждого — клочок голой земли, бывший когда-то газоном или клумбой.
— «Радости чистейший дух», — повторяет доктор Пул и, вздохнув, качает головой.
Рассказчик
Радости? Но ведь радость давным-давно убита. Остался лишь хохот демонов, толпящихся вокруг позорных столбов, да вой одержимых, спаривающихся во тьме. Радость — она ведь только для тех, чья жизнь не противоречит заведенному в мире порядку. Для вас же, умников, которые считают, что порядок этот можно улучшить, для вас, сердитых, мятежных и непокорных, радость очень скоро становится незнакомкой. Те, кто обречен пожинать плоды ваших фантастических затей, не будут даже подозревать о ее существовании. Любовь, радость и мир — вот плоды духа, являющегося вашей сущностью и сущностью мира. А плоды обезьяньего склада ума, плоды мартышечьей самонадеянности и протеста — это ненависть, постоянное беспокойство и непрестанные беды, смягчаемые лишь еще более страшным безумием.
Тем временем доктор Пул продолжает бормотать на ходу:
Мир полон лесорубов, что грустящих
Дриад любви с дерев сгоняют жизни
И соловьев распугивают в чащах.
Рассказчик
Лесорубов с топорами, людей с ножами, убивающих дриад, людей со скальпелями и хирургическими ножницами, распугивающих соловьев.
Доктор Пул вздрагивает и ускоряет шаг, словно человек, почувствовавший за спиной чье-то недоброжелательное присутствие. Потом вдруг останавливается и снова оглядывается.
Рассказчик
В городе, вмещающем два с половиной миллиона скелетов, присутствие нескольких тысяч живых людей едва заметно. Ничто не шелохнется. Полная тишина среди этих уютных буржуазных развалин кажется нарочитой и даже несколько заговорщицкой.
Доктор Пул, пульс которого участился от надежды и страха перед разочарованием, сворачивает с улицы и идет по дорожке, ведущей к гаражу Э 1993. Двери его открыты и болтаются на ржавых петлях. Доктор Пул входит в затхлый полумрак. Пробивающийся через дырочку в западной стене гаража тонкий карандашный луч закатного солнца падает на левое переднее колесо четырехдверного седана «шевроле супер де люкс» и лежащие рядом на земле два черепа — один взрослый, другой, очевидно, детский. Ботаник открывает единственную незаклиненную дверцу машины и вглядывается в царящую внутри тьму.
— Лула!
Он залезает в машину, садится рядом с девушкой на заднее сиденье с разодранной обивкой и берет ее руку в свои ладони.
— Милая!
Лула молча смотрит на него. В глазах у нее выражение, граничащее с ужасом.
— Значит, тебе все же удалось улизнуть?
— Флосси что-то подозревает.
— Да черт с ней, с этой Флосси! — отвечает доктор Пул тоном, который, по его мнению, должен звучать беззаботно и успокоительно.
— Она задает всякие вопросы, — продолжает Лула. — Я сказала ей, что иду поискать иголки и ножи.
— А нашла только меня.
Он нежно улыбается и подносит ее руку к губам, но Лула качает головой:
— Алфи, прошу тебя!
В ее голосе звучит мольба. Так и не поцеловав, доктор Пул отпускает ее руку.
— И все же ты меня любишь, правда?
Глазами, широко открытыми от испуга и замешательства, она смотрит на него, потом отворачивается.
— Не знаю, Алфи, не знаю.
— А вот я знаю, — решительно говорит доктор Пул. — Знаю, что люблю тебя. Знаю, что хочу быть с тобой. Всегда. Пока смерть нас не разлучит, добавляет он со всем пылом застенчивого сексуалиста, внезапно принявшего сторону реальности и моногамии.
Лула снова качает головой:
— Я знаю только, что не должна быть здесь.
— Что за чушь!
— Нет, не чушь. Я сейчас не должна быть здесь. И в другие разы не должна была приходить. Это против закона. Это в разлад со всем, что думают люди. Он этого не позволяет, — после секундной паузы добавляет она. На лице у нее появляется выражение крайнего отчаяния. — Но почему ж тогда Он создал меня такой, что я так отношусь к тебе? Почему Он создал меня наподобие этих... этих... — Она не в силах произнести мерзкое слово. — Я знала одного из них, — тихо продолжает она. — Он был милый, почти как ты. А потом они убили его.
— Что толку думать о других? — говорит доктор Пул. — Лучше подумаем о нас. Подумаем, как счастливы мы могли бы быть — и были — два месяца назад. Помнишь? Лунный свет... А каким темным был мрак! «Душа же источает дух лесной и дикий...»
— Но тогда мы не поступали дурно.
— И сейчас не поступаем.
— Нет, сейчас совсем не то.
— То же самое, — настаивает доктор Пул. — Я не чувствую никакой разницы. И ты тоже.
— Я чувствую, — возражает Лула не слишком громко и потому без убежденности.
— Нет, не чувствуешь.
— Чувствую.
— Нет. Ты только что сама сказала. Ты не такая, как остальные, слава Богу!
— Алфи!
Чтобы загладить вину, она делает рожки.
— Их превратили в животных, — продолжает он. — А тебя нет. Ты нормальный человек с нормальными человеческими чувствами.
— Нет.
— Да, не спорь.
— Это неправда, — стонет Лула, — неправда. Она закрывает лицо руками и начинает плакать.
— Он убьет меня, — рыдает она.
— Кто убьет?
Лула поднимает голову и с опаской смотрит через плечо, в заднее стекло машины.
— Он. Он знает все, что мы делаем, все, даже то, что мы только думаем или чувствуем.
— Может, и знает, — говорит доктор Пул, чьи либерально-протестантские воззрения на Дьявола за последние недели существенно изменились. — Но если мы чувствуем, и думаем, и делаем правильно, Он нас не тронет.
— Но как это — правильно? — спрашивает Лула. Несколько секунд он молча улыбается.
— Здесь и сейчас правильно вот что, — говорит наконец доктор Пул и, обняв Лулу за плечи, притягивает ее к себе.
— Нет, Алфи, нет!
Охваченная паникой, она пытается высвободиться, но он крепко держит ее.
— Вот это — правильно, — повторяет он. — Быть может, это правильно не всегда и не везде. Но здесь и сейчас — наверняка.
Он говорит сильно и очень убежденно. Еще никогда за всю его изменчивую и противоречивую жизнь ему не доводилось мыслить столь ясно и действовать столь решительно.
Лула внезапно уступает:
— Алфи, ты уверен, что это правильно? Совершенно уверен?
— Совершенно, — отвечает он с высоты нового для него чувства самоутверждения и с нежностью гладит ее волосы.
— «Так, смертная, — шепчет он, — она стоит, являя собой любовь, свет, жизнь и божество. Она — весны и утра воплощенье, она — младой апрель».
— Еще, — шепчет Лула.
Глаза ее закрыты, на лице выражение сверхъестественной безмятежности, какая бывает порой на лицах у мертвых. Доктор Пул начинает опять:
Мы станем говорить, и дум напев,
В словах ненужных робко замерев,
Вновь оживет в проникновенных взорах,
Гармония беззвучная которых
Пронзает сердце. Мы с тобой сольем
Дыханье наше, грудь к груди прижмем,
Чтоб кровь забилась в унисон, а губы,
Не прибегая к звукам речи грубой,
Затмят слова, что жгли их так доныне;
Как с гор ручьи встречаются в долине,
Так, тихие покинув тайники,
Сольются наших жизней родники,
И станут страсти золотой струею,
И станем мы с тобой душой одною,
Живущей в двух телах... Зачем же в двух?
Долгое молчание. Внезапно Лула открывает глаза, несколько мгновений пристально смотрит на доктора Пула, потом обнимает его и жарко целует в губы. Но стоит ему прижать ее к себе чуть покрепче, как она вырывается и отодвигается на свой конец сиденья. Он пытается придвинуться, но она не пускает.
— Это не может быть правильно, — говорит она.
— Но это правильно. Лула качает головой:
— Это слишком прекрасно, я была бы слишком счастлива, если бы так оно и было. А Он не хочет, чтобы мы были счастливы. — Пауза. — Почему ты сказал, что Он нас не тронет?
— Потому что есть кое-что посильнее Его.
— Посильнее? — Она качает головой. — Он все время боролся с этим — и победил.
— Только потому, что люди помогли ему победить. И не забывай, что победить раз и навсегда Он не может.
— Почему же?
— Потому что Он не может не поддаться искушению и не довести зло до предела. А когда зло доходит до предела, оно всегда уничтожает само себя. И после этого снова появляется обычный порядок вещей.
— Когда еще это будет...
— В масштабах всего мира и в самом деле не скоро. Однако для отдельных людей — тебя и меня, например, — хоть сейчас. Что бы Велиал ни сделал с остальным миром, мы с тобой всегда можем действовать во имя естественного порядка вещей, а не против него.
Снова наступает молчание.
— Мне кажется, я все же тебя не понимаю, — наконец говорит Лула, — но это не важно. — Она опять пододвигается ближе, кладет голову ему на плечо и продолжает: — Теперь для меня ничто не важно. Пускай Он убьет меня, если захочет. Это не имеет значения. Во всяком случае, сейчас.
Он берет ее лицо в ладони, приближает к своему, наклоняется для поцелуя, и в этот миг экран темнеет и превращается в безлунную ночь.
Рассказчик
L'ombre etait nuptiale, auguste et solennelle. Но на этот раз торжественность свадебной ночи не нарушается ни бешено-похотливыми воплями, ни Liebestod, ни саксофонными мольбами о детумесценции. Пропитавшая эту ночь музыка чиста, но не наглядна, точна и определенна, но лишь в отношении реальности, которой нет названия, всеобъемлюща и плавна, но не вязка, свободна от малейшей тенденции властно прилипать ко всему, до чего бы она ни дотронулась и что бы ни охватила. Это музыка, пронизанная духом Моцарта, хрупкая и радостная, несмотря на свою причастность к трагедии, музыка сродни веберовской, аристократичная и утонченная и тем не менее способная на безрассудное веселье, равно как и самое точное понимание мировых страданий. Нет ли в ней намека на то, что в «Ave Verum, Corpus» {«Слава тебе, пресвятое тело» (лат.).} и в соль-минорном квинтете лежит вне пределов мира «Don Giovanni» {«Дон Жуан» (ит.).}? Нет ли тут намека на то, что уже (иногда у Баха и у Бетховена — в той конечной цельности искусства, которая сродни святости) выходит за пределы романтического сплава трагического и смешного, человеческого и демонического? И когда в темноте голос влюбленного снова шепчет слова: «...она стоит, являя собой любовь, свет, жизнь и божество», то не начинается ли уже здесь понимание того, что, кроме «Эпипсихидиона», есть еще и «Адонаис» и, кроме «Адонаиса», — беззвучная доктрина чистого сердца?
Наплыв: лаборатория доктора Пула. Солнечный свет льется сквозь высокие окна и ослепительно сияет на сделанном из нержавеющей стали тубусе микроскопа, стоящего на рабочем столе. Комната пуста.
Внезапно молчание нарушается звуком шагов, дверь открывается, и в лабораторию заглядывает директор по производству продуктов питания — все тот же дворецкий в мокасинах.
— Пул, — начинает он, — его высокопреосвященство пожаловали, чтобы...
Он останавливается, и на лице у него появляется удивление.
— Его тут нет, — говорит он архинаместнику, который вслед за ним входит в комнату.
Великий человек поворачивается к сопровождающим его двум служкам и приказывает:
— Посмотрите, может быть, доктор Пул на опытном участке. Служки кланяются, скрипят в унисон: «Слушаюсь, ваше высокопреосвященство» — и уходят.
Архинаместник садится и изящным жестом приглашает директора последовать его примеру.
— Кажется, я вам еще не говорил, что пытаюсь убедить нашего друга принять постриг, — сообщает он.
— Я надеюсь, ваше высокопреосвященство не имеет в виду лишить нас его неоценимой помощи в деле производства продуктов питания, — взволнованно отзывается директор.
Архинаместник успокаивает собеседника:
— Я прослежу, чтобы у него всегда было время помочь вам дельным советом. Однако я хочу быть уверен, что его способности пойдут на пользу церкви.
Служки снова входят и кланяются.
— Ну?
— На участке его нет, ваше высокопреосвященство.
Архинаместник сердито хмурится, директор корчится под его взглядом.
— Вы как будто говорили, что в этот день он обычно работает в лаборатории?
— Так точно, ваше высокопреосвященство.
— Почему же его нет?
— Не представляю, ваше высокопреосвященство. Он никогда не менял расписания без моего ведома.
Молчание.
— Мне это не нравится, — сообщает наконец архинаместник. — Очень не нравится. — Он поворачивается к служкам: — Бегом в центр, отправьте полдюжины верховых на его поиски.
Служки кланяются, издают синхронный писк и исчезают.
— Что же касается вас, — повернувшись к перепуганному бледному директору, говорит архинаместник, — то, если что-нибудь случится, вы за это ответите.
Величественный и гневный, он поднимается и шествует к выходу.
Наплыв: монтажная композиция.
Лула со своей кожаной сумкой на плече и доктор Пул с ранцем, состоявшим на вооружении в армии еще до Этого, карабкаются через обвал, перегородивший одну из великолепно спроектированных автотрасс, которые еще бороздят отроги гор Сан-Габриэль.
Открытый всем ветрам гребень горы. Двое беглецов смотрят вниз, на необозримый простор пустыни Мохаве.
Следущий кадр: сосновый лес на северном склоне. Ночь. В пробивающейся сквозь кроны полосе лунного света доктор Пул и Лула спят, укрывшись домотканым одеялом.
Скалистое ущелье, по дну которого течет ручей. Любовники остановились: они пьют и наполняют водой бутылки.
А теперь мы в предгорьях, лежащих выше уровня пустыни. Идти среди кустиков полыни, зарослей юкки и можжевельника несложно. В кадр входят доктор Пул и Лула; камера следит, как они шагают по склону.
— Натерла ноги? — озабоченно спрашивает доктор Пул.
— Нет, ничего, — бодро улыбается Лула и качает головой.
— Думаю, нам нужно скоро делать привал и перекусить.
— Как скажешь, Алфи.
Он извлекает из кармана старинную карту и изучает ее на ходу.
— До Ланкастера еще миль тридцать, — говорит он. — Восемь часов ходу. Нужно подкрепиться.
— А как далеко мы будем завтра? — спрашивает Лула.
— Немного дальше Мохаве. А потом, по моим расчетам, нам потребуется не меньше двух дней, чтобы пересечь Техачапи и добраться до Бейкерсфилда. — Он засовывает карту в карман и продолжает: — Мне удалось выудить из директора довольно много всяких сведений. По его словам, на севере люди относятся весьма дружелюбно к беглецам из Южной Калифорнии. Не выдают их даже после официального запроса правительства.
— Слава Вел... то есть слава Богу! — восклицает Лула.
Снова наступает молчание. Вдруг Лула останавливается:
— Смотри! Что это?
Она протягивает руку, и с точки, где она стоит, мы видим невысокую юкку, а под ней — изъеденную ветрами бетонную плиту, которая нависла над старой могилой, заросшей сорной травой и гречихой.
— Здесь кто-то похоронен, — говорит доктор Пул.
Они подходят ближе; на плите, снятой крупным планом, мы видим надпись, которую читает за кадром доктор Пул:
Уильям Тэллис
1882-1948
Не сомневайся, сердце, не грусти!
Уж нет твоих надежд; они отсюда
Ушли, теперь тебе пора идти!
В кадре снова двое влюбленных.
— Должно быть, он был очень печальным человеком, — говорит Лула.
— Может, не таким уж печальным, как ты думаешь, — отвечает доктор Пул, снимая тяжелую укладку и садясь на землю рядом с могилой.
Пока Лула достает из сумки хлеб, овощи, яйца и полоски вяленого мяса, доктор Пул листает томик Шелли.
— Вот, нашел, — наконец говорит он. — Эта строфа идет после той, что выбита здесь.
Краса, все приводящая в движенье,
Свет, чья улыбка вечно молода,
И милость, что проклятию рожденья
Не уничтожить, — ты, любовь, тверда,
Сквозь жизни ткань, что долгие года
Ткут человек и зверь, земля и море,
Горишь светло иль тускло, но всегда
Желанно — ты, со смертной тучей споря,
Ее развеешь надо мной в просторе.
Наступает молчание. Лула протягивает доктору Пулу крутое яйцо. Он разбивает его о надгробие, принимается чистить и бросает белые кусочки скорлупы на могилу.
_______________
* Роман «Обезьяна и сущность» («Аре and Essence») написан в 1948 г. Впервые опубликован в Англии в издательстве «Чатто энд Уиндус» в 1949 г. Названием романа послужили слова Изабеллы, героини комедии У. Шекспира «Мера за меру» (акт II, сц. 2)
«Но человек — гордец с недолгой и непрочной властью,
не знает и того, в чём убежден.
Безлика его сущность перед небом,
она так корчит рожи обезьяньи,
что ангелы рыдают»
(перевод И. Русецкого)