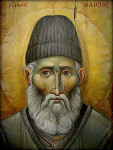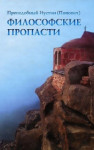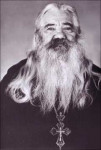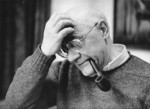В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда. Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст,неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге — в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался — там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду
совторгслужащих, томился духовой оркестр: однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое
вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы
наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.
Вы здесь
Человек
Веселье (Зинаида Гиппиус)
Блевотина войны — октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!
Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил — засек кнутом?
Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!
Великое всемирное единство (Иван Ильин)
Мы «вплетены» или «вращены» в мировой процесс, каждый из нас по-особому, по-иному, но все-таки — все, без исключения. Мы сплетены в великое всемирное единство: оно обстоит ныне в настоящем, уходит корнями в забытое прошлое и ведет в неизвестное, рождающееся и еще не рожденное будущее. Мы держимся друг за друга, мы держим друг друга — и валимся друг на друга, как в детской валятся уставленные в ряд «кирпичики». Нет оторванных или изолированных людей, несмотря на все наше душевно-духовное одиночество. От черствости одного черствеет весь мир; развратный человек развращает собой всех; всякое преступление взывает на всю вселенную и передается во все концы; лентяй есть мертвая ячейка истории; от пошлого человека тускнеет Божий свет в мировом эфире; всякий духовный предатель предает сразу Бога и все человечество; всякая личная фальшь и злоба лжет на весь мир и гасит любовь во всей вселенной.
Воспоминание (Александр Пушкин)
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
О просвечивание вечного лика Христа в чертах конкретной личности (Владимир Мартынов)
Говоря о непреходящей новизне, принесенной Откровением, невозможно миновать проблему личности. Ни одна религия мира, ни одна философская система не ставила вопрос об онтологическом основании личности на том уровне, на котором он ставится в Новозаветном Откровении. И атман, и нирвана, и дао, и идея метемпсихоза, и греческий аид, и иудейская геенна — все это скорее снятие вопроса о бытийном основании личности, чем решение его. Только Откровение Нового Завета приоткрывает тайну личности как вечной реальности, причем не тайну какой‑то абстрактной идеи личности, но тайну каждой отдельной конкретной личности: «В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам:"Я иду приготовить место вам"» (Ин. 14:2). Бесчисленное множество обителей в доме Отца есть бесчисленное множество ликов вечности, предуготованных для бесчисленного множество конкретных личностей с тем, чтобы каждая личность могла узреть саму себя в своем вечном лике через посредство Христа. В этом узрении своего вечного лика и заключается новозаветная тайна личности, и эта тайна приобщения к Бытию совершается только через Христа и только во Христе. Личность, даже только прикоснувшаяся к этой тайне, начинает существовать в совершенно особом пространстве — в иконическом пространстве, или в пространстве иконы. В этом пространстве каждый сиюсекундный жест, каждое сиюсекундное действие как бы удваивается в вечности, а вечность, в свою очередь, наполняет каждый жест и каждое действие. «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20), — говорит по этому поводу апостол Павел. И именно просвечивание вечного лика Христа в чертах конкретной личности и составляет суть пространства иконы. В каждой новой личности лик Христа просвечивает по–новому, и в бесчисленном множестве новых личностей, раскрывающих бесчисленное множество новых аспектов единого вечного лика, заключается суть принципа varietas, являющегося главным законом, на основании которого разворачивается все происходящее в пространстве иконы.
Недовольство ближним. Разговор о радости (Архимандрит Андрей (Конанос)
Уроком, который мы даем другим, часто бывает полное разочарование. Мы сами несчастливы, несмотря на всё хорошее, что получаем дома, как же мы изменим других?
Помните притчу, где говорится, что один человек был должен много денег, как это сейчас происходит у нашей страны с внешним долгом, и царь сказал ему:
– Я прощаю тебе долг, перечеркиваю всё, я аннулирую твой долг! ( Ср. Мф. 18, 23)
Вместо того чтобы отправить его в тюрьму, потому что слуга сказал ему:
– Очень прошу тебя: дай мне еще одну возможность, прости и сделай для меня самое лучшее!
Царь простил ему весь долг, а речь шла о миллионах по тем временам. И слуга был счастлив, он радовался, парил на облаках, но как долго? Пять минут. А почему? Потому что немного спустя увидел другого человека, идущего по улице, который должен был ему 5 евро (я говорю вам по нынешним деньгам) и сказал ему:
– Очень прошу тебя: верни мне те пять евро, которые должен мне!
О страсти обличать внутрицерковные болезни (Преподобный Паисий Святогорец)
Духовным, рассудительным отцам известно, что этой демонической деятельностью (выставлением на позор клира и Церкви) они многих сделали иеговистами. А также всему миру известно, что таким неправославным способом еще ни одного иеговиста не удалось сделать православным.
Благий Бог терпит нас с любовью и никого не выставляет на позор, хотя и знает, как сердцеведец, наше греховное состояние. Также и святые никогда не оскорбляли грешного человека перед другими людьми, но с любовью и духовной деликатностью тайным образом способствовали исправлению зла. Мы же, несмотря на то, что являемся грешниками, делаем обратное (как лицемеры).
Строим, строим города (Александр Межиров)
Строим, строим города
Сказочного роста.
А бывал ли ты когда
Человеком — просто?
Все долбим, долбим, долбим,
Сваи забиваем.
А бывал ли ты любим
И незабываем?
Конец времени композиторов. Фрагмент (Владимир Мартынов)
Заглавие этой книги у многих, наверное, может вызвать скептическую улыбку, ибо писать о конце времени композиторов в наши дни, по всей видимости, и достаточно неактуально, и безнадежно поздно. На фоне многочисленных и давно уже примелькавшихся заявлений о смерти Бога, смерти человека, смерти автора, конце письменности, конце истории и подобных им констатации летального исхода, относящихся к различным областям человеческой деятельности, мысль о смерти композитора или об исчерпанности композиторского творчества выглядит вяло, тривиально и тавтологично. В самом деле: что нового может дать рассуждение о невозможности композиторского творчества в наше время, если уже в XIX веке устами Гегеля был вынесен приговор искусству вообще? Но, может быть, именно сейчас как раз и настало время писать обо всем этом, ибо именно сейчас, когда банкротство принципа композиции стало очевидным фактом, нам предоставляется реальная возможность понять, является ли это банкротство некоей случайной исторической частностью или же событие это носит более фундаментальный характер, представляя собой одно из звеньев осуществления гегелевского приговора. Наверное, не случайно на важность осознания последствий гегелевского приговора и на актуальность его в контексте нашего времени указывал Хайдеггер в своем исследовании «Исток художественного творения», где, непосредственно отталкиваясь от слов Гегеля, он развивал мысль о конце искусства следующим образом:
«Говоря, правда, о бессмертных творениях искусства, и об искусстве говорят как о вечной ценности. Так говорят на языке, который во всем существенном не очень беспокоится о точности, опасаясь того, что заботиться о точности значит думать. А есть ли теперь страх больший, нежели страх перед мыслью? Так есть ли смысл, и есть ли внутреннее содержание во всех этих речах о бессмертных творениях искусства и о вечной ценности искусства? Или же это только недодумываемые до конца обороты речи, тогда как все большое искусство вместе со всею своею сущностью отпрянуло и уклонилось в сторону от людей?
Бездельник (Андрей Битов)
Руководитель сказал мне:
- Нет, Витя, так не пойдет. Так не годится. Не могу, Витя, понять, чем у вас голова забита. Вы производите впечатление такого солидного человека, а на поверку выходит что? Выходит вот что. Испытательный срок кончается? Кончается. А кончится - будет что? Будет фук? (Это он так шутит.) Так вот, слушайте меня внимательно...
Это он верно отметил. Впечатление такое я произвожу. Я произвожу очень много разных впечатлений. Солидного человека - тоже. Точно, какой я на самом деле, сказать не могу. Возьмем, скажем, зеркало. Ведь именно перед зеркалом мы понимаем, какими нас видят люди. Для того и смотримся. Я же редко узнаю себя в зеркале. То стою перед ним высокий и стройный, и лицо красивое, подтянутое, черты правильные и резкие, то невозможно толстая оладья - не понять вообще, есть ли эти черты. И не просто широкое, а безбрежное у меня иногда лицо, и сам я тогда коротенький и толстый. Одно время я думал, что только сам в этом путаюсь, а остальные видят меня объективно, с такими-то и такими-то определенными, именно мне присущими чертами. Оказывается, нет. Руководитель сказал мне как-то: "Позвольте, что с вами? Какой вы, оказывается, высокий! Вы что, на котурнах? Вы же всегда были низеньким?" При этом он знал меня уже около месяца и каждый день видел.
Тайна Иова (Архиепископ Иоанн Шаховской)
О Страдании
Тайна Иова есть тайна страдания. Нет ни одной книги на земле, которая подошла бы к этой тайне так просто, так глубоко и так всеобъемлюще, как книга Иова. Ни Шопенгауэр, ни Гартман, ни какая другая философия печали и скорби человеческой, ни произведения художественной мировой литературы не дают столь ясной глубины познания страданий, как книга Иова. Рядом с познанием страданий стоит в этой книге познание человеческого усыновления Богу, - вне этого второго нельзя проникнуть в первое. Вот отчего в мире так много людей не понимающих страдания, неистинно переживающих человеческую скорбь. Но ничто так не нуждается в раскрытии, освещении и познании, как тайна человеческих страданий, среди которых мы живем.
Философия Будды считает страданием человеческую жизнь и хочет уйти от страдания, уходя из смысла жизни. Некоторых прельщает эта мудрость. Нам она кажется земной, “человеческой”, извращающей путь истинного приятия жизни. Нельзя считать нашу жизнь миражем в том смысле, в каком ее хотел считать Будда. Жизнь есть реальность; правда, не та, которую замечает в этом мире большинство людей, но жизнь есть великая реальность, - не мираж, не Майя.
Воды глубокие... (Александр Пушкин)
Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.
1833
Из Ксенофана Колофонского (А. С. Пушкин)
Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают;
Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь,
Ладана сладостный дым; другой открывает амфору,
Запах веселый вина разливая далече; сосуды
Светлой студеной воды, золотистые хлебы, янтарный
Мед и сыр молодой — все готово; весь убран цветами
Жертвенник. Хоры поют. Но в начале трапезы, о други,
Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи,
Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою
Правду блюсти; ведь оно ж и легче. Теперь мы приступим:
Каждый в меру свою напивайся. Беда не велика
В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава
Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо!
1833
Полководец (Александр Пушкин)
У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот, - а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Евгений Онегин. Глава VIII, Строфа XXVII
Но мой Онегин вечер целый
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы.
О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:1
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;2
Запретный плод вам подавай:
А без того вам рай не рай.
----
1 Эва (Ева) - праматерь всех людей.
2 "К таинственному древу" - райское древо познания добра и зла.
Полоса (Сергей Шаргунов)
Он каждое утро ходил по гребаной полосе и наступал на плиты бережно, как на надгробия.
Гребаной полосу называла дочь, очевидно, ей было неловко при отце употреблять более резкое слово. Она предлагала отцу из таежного поселка переехать к ней в Пермь, но он говорил:
— А она? Куда ж я без нее...
— Что она тебе, жена?
— Может, и жена, и родня... Я же это... за ней слежу, как за кладбищем. Осенью завалит ее ветками — разгребаю, летом кошу, где трава лезет, зимой снег чищу. Ты меня знаешь: я без дела не умею. И вообще человек упрямый. Работаю и о тех, кто помер, вспоминаю.
Как будто все они в одном месте лежат, а я им... это... вечный покой обеспечиваю. И на всякий случай работа — вдруг спасу кого-то.
— Кого спасешь? Какая работа? Кому она нужна? Чокнулся ты, папка, — нежно говорила Таня и гладила по голой голове.
У него голова была голая, выпали все волосы, но висели подковой седые усы. Был Алексей Петрович Соков худ, легок и с маленькими голубыми глазами — яркими, как у маньяка.
Высшая ценность и непогрешимый критерий (Преподобный Иустин Попович)
Когда человек пробуждается в брении своего тела и видит духовные реальности, тогда он ощущает, что все материальные реальности реальны настолько, насколько его дух осознает их таковыми. И вскоре человек приходит к парадоксальному выводу: люди, как существа особого рода, познают реальное в материальном мире с помощью духа, не имеющего свойств материальных реальностей, но являющегося тем, что не может быть ни материально объективировано, ни явлено как транссубъективная реальность, ни чувственно осязаемо. Но, хотя его нельзя заключить в формы материальной действительности, дух все же своей невидимой сущностью является критерием всех видимых реальностей в мире материи. И человек все неодолимее ощущает и осознает, что мысль духа, хотя неощутимая, невидимая, нематериальная, все-таки реальнее, чем какая-либо транссубъективная действительность в области материи. Более того, все действительности основывают свою реальность на мыслях духа, который сам по себе нематериален. В этом и преимущество, и загадочность, и величие человеческого духа.
О том, как Cпаситель в гости ходил (Архимандрит Павел (Груздев)
В одном месте прошел слух, что Спаситель придет в этот город. Сам Христос. А кто хороший человек, благочестивый человек, Он придёт в гости к нему. А Он каждый день к нам, каждый час к нам. А у этого человека благочестивого будет гостить.
Одна женщина — церковь она посещала, каждый день Евангелие читала, молилась, вела прекрасную жизнь, но гордость у нее была. И вот она сама себе говорит: «Спаситель ко мне придет, обязательно придет». Напекла, наготовила. Этого не было, а пример, притча. Все наготовила. Ждет Спасителя. Самовар вскипела, мармашели наварила, пирогов напекла, яишницу сделала по-простому — Спаситель придет. Притом же она Евангелие каждый день читала.
Идет мальчишка-сосед и говорит:
— Тетя Маня, ради Христа, пойдем, помоги, с мамой плохо сделалося. Стонет, а мне ее не поднять.
— Не пойду. Ко мне Гость придет. А ты пришел, нахрямдал тута в грязных сапогах.
Прогнала ребенка. Ну чего. Мальчишонка домой пришел, мать поправилася. Слава Тебе, Господи!
Феноменология — сопутствующий момент всякой философии (Мераб Мамардашвили)
Я начну с такого утверждения, что феноменология, очевидно, есть момент всякой философии. И в этом смысле философия является как бы бесконечной культурной формой. То есть она содержит в себе некоторые уже заданные ее целостностью моменты или зерна, которые могут когда-то и кем-то выявляться, развиваться с помощью понятий, но сами возможности этого развития будут содержаться уже в самом факте конституирования философии. И эта ее живая непрерывность не зависит от знания тех или иных существующих источников. Приведу пример.
Возьмем кантовскую проблему, имея в виду именно этот указанный феноменологический момент. Я сформулирую ее очень грубо: если разумом можно задавать первопонятие, то мы погибли. Иными словами, если мы можем бытийные определения получать из мышления, из понятий, то эти бытийные определения будут определениями и представлениями одного-единственного мира. Причем такого, в котором будет отрицаться как раз сам факт существования моего живого восприятия меня как мыслящего существа, стремящегося к тому, чтобы осуществить когитальный акт: я мыслю, я существую. В смысле Декарта. Отсюда вся проблема антиномий у Канта с его стремлением к осуществлению именно этого самодостоверного и единственно важного для философа акта «я есмь».
Терпение исполняет человека Божественной Благодатью (Преподобный Паисий Святогорец)
— Геронда, как вести себя с человеком, когда он раздражён, взвинчен?
— С терпением.
— А если у меня его нет?
— Надо пойти купить! Продаётся в супермаркетах!.. Гляди: если человек кипит гневом, что бы ты ему ни говорил, никакого толку не будет. В такой момент лучше замолчать и творить Иисусову молитву. От молитвы он утихнет, успокоится, и потом можно прийти с ним к взаимопониманию. Посмотри, ведь и рыбаки не выходят рыбачить, если на море волнение. Они терпеливо ждут, пока погода не наладится.
— Геронда, а чем объясняется нетерпение людей?
— Оно объясняется тем, что у них внутри очень много... мира! Бог поставил спасение людей в зависимость от их терпения. «Претерпе́вый же до конца́, той спасе́н бу́дет» (Мф. 10:22) — говорит Евангелие. Бог даёт людям трудности, различные испытания ради того, чтобы они поднаторели в терпении.
Терпение начинается с любви. Чтобы ты терпел человека, тебе должно быть за него больно.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »