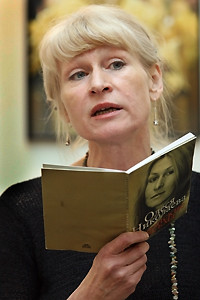Страницы
Воспоминания об игуменье Серафиме (Черной)
В 1995 году моего мужа рукоположили во диакона Русской православной Церкви, и служил он тогда в Сретенском монастыре. Матушка Серафима, незадолго до этого ставшая игуменьей Ново-Девичьего монастыря, прослышав от кого-то, что существует такая «диаконица», которая давным-давно водит машину, очень мной заинтересовалась: митрополит Ювеналий готов был пожертвовать ее монастырю свою черную «Волгу», но желал это сделать лишь тогда, когда у матушки появится шофер. И вот она обратилась ко мне с просьбой, чтобы я устроилась к ней водителем, и тогда у монастыря сразу бы появилась своя машина, ну а потом кто-то из ее послушниц научился бы водить автомобиль, и она бы отпустила меня с благодарностью.
Матушка была мне очень по сердцу: она принадлежала славному дворянскому роду, послужившему Церкви, царю и Отечеству: ее родным дедушкой был новомученик митрополит Серафим Чичагов, который в свое время много потрудился для канонизации преподобного Серфима Саровского, считавшегося еще и нашим семейным покровителем, спасшим во время Отечественной войны от верной смерти моего отца. Прадед ее служил при Николае I министром Военно-морского флота, а прапрадед — адмирал Чичагов в свое время прославился тем, что разбил под Ревелем шведскую эскадру.
Что касается самой игуменьи Серафимы (Варвары Васильевны), при том что она никогда не состояла в партии и даже любила повторять: «Господь был милостив ко мне и позволил избежать членства в безбожной партии», она была профессором, доктором химических наук, почетным членом многих академий мира, лауреатом Госпремии СССР, имела два ордена — Трудового красного знамени и Октябрьской революции: ей принадлежали какие-то важные открытия в каучуковой промышленности, в частности, — она изобрела скафандр, в котором Юрий Гагарин полетел в космос. Да и вообще она являла собой человека, что называется, «штучного».
Оговорив с игуменьей, что она будет отпускать меня на семинары по литмастерству, которые я вела в Литературном институте им. Горького, я согласилась.
Люди митрополита Ювеналия тут же оформили на монастырь его «Волгу», мне как шоферу игуменьи была выдана доверенность, и жизнь моя покатилась по дорогам новооткрытой Новодевичьей женской обители. Надо сказать, что в ту пору собственно монастырю принадлежал только храм со свечной лавкой да две-три комнаты, располагавшиеся в самом храме: в одной — была приемная игуменьи, куда к ней приходили, в основном, несчастные, разбитые горем женщины (одну выгнал из однокомнатной квартиры сын, приведший туда молодую жену, другую — пьющий и рукоприкладствующий муж, а третью — еще совсем юную особу — прислал какой-то монах-духовник, запретивший ей вступать в брак с любимым человеком: «Если выйдешь замуж, ко мне можешь больше не приходить!»: жениху она предпочла духовника). В другой комнате располагалась кухня с трапезной, ну а в третьей — хранились какие-то полезные для обители вещи. Монастырю, в принципе, отходили и полуразрушенные постройки, которые со временем должны были преобразиться в кельи для сестер, но это относилось к неизвестному будущему, поскольку никаких средств на их восстановление не было, и пока потенциальным насельницам было негде главы преклонить.
Они жили кто где и каждый день приходили в монастырь «на послушание» из мира. Да и матушка игуменья продолжала жить в своей московской квартире на площади Восстания, куда я заезжала за ней каждое утро в восемь часов тридцать минут на своей машине, привозила ее в монастырь, лихо зарулив в ворота, которые с неизменной поспешной готовностью распахивал пожилой охранник, и только тогда пересаживалась на черную Волгу.
Она была припаркована у самого храма. Там же всегда стояла отлично сохранившаяся «Победа» молоденького иеродьякона митрополита Ювеналия, и по утрам я, вдохновляемая примером неутомимого хозяина «Победы», трудившегося поблизости, надраивала Волгу и вытряхивала коврики, чего почти никогда не делала со своей машиной, считая — возможно, не без оснований, — «что так сохранней будет» (за год до этого у меня прямо из-под носа угнали мою чистейшую и сиявшую полировкой «семерку»).
Далее, когда машина была готова к выезду игуменьи, мы ехали с матушкой «по спонсорам», то есть по всяким инстанциям и благотворительным фондам, где можно было разжиться деньгами на восстановление монастыря. Но никто денег давать не только не торопился, но, кажется, и вовсе не собирался, несмотря на то, что визиты матушки предварялись вдохновенными посланиями и убедительными аргументами в пользу именно такого употребления средств. Никак нам не удавалось поворотить в сторону разрушенной обители финансовые потоки. На нас смотрели с такой подозрительной и лукавой ухмылкой (мол, нас на мякине не проведешь, нашли простачков!), словно мы просили, по меньшей мере, повернуть северные реки…
Я даже использовала для этого свое членство в Русском Пен-Центре и, узнав телефон пресс-секретаря Хакамады, в то время депутата Госдумы, представилась (наверное, для повышения статуса просьбы) писательницей и произнесла в трубку, как мне казалось, некий «харизматический» текст о тех неисчислимых духовных, эстетических, а также прагматических выгодах, которые Ирина Муционовна могла бы получить за свое покровительство…
Пресс-секретарь (секретарша) строго спросила, что я имею в виду, говоря об «эстетических выгодах»? Я ответила, что восстановление такой прекрасной обители приносит эстетическое удовольствие и вызывает в памяти прекрасный образ Великой Княгини Елизаветы Федоровны, создавшей свой монастырь… Ну в том смысле, что это будет «красивый поступок». К тому же его игуменья — аристократка, внучка мученика, сама академик, никогда не была членом КПСС.
Я даже не без поэтической велеречивости намекнула, что Ирина Муционовна могла бы этим украсить и свой собственный — запнувшись, я все-таки сказала — «имидж», и свою грядущую предвыборную кампанию и даже войти в историю, причем самым достойным образом.
Мне кажется, я вещала так убедительно, что чуть ли не воочию вдруг увидела эту прекраснейшую картину вхождения Ирины Муционовны в историю: в белых одеждах, в изящном венке из лилий — как-то именно так входила туда Ирина Муционовна, и оттого история представилась на миг чем-то, наподобие Царства Небесного… Вот такое чудное было у меня мгновенье — мимолетное виденье…
Но завершилось оно, как и положено, тревогами шумной суеты, томлениями безнадежной грусти и мятежным порывом бурь.
Моя собеседница, посоветовавшись со своей начальницей, жестко ответила, что Ирина Муционовна не видит причин, почему, собственно, она должна помогать именно православным, а не иудеям или мусульманам, или еще кому-то. Было ясно (впрочем, этого и следовало ожидать), что ни образ Великой Княгини, ни игуменьи-академика никак не вдохновил (хотя бы эстетически) бывшую коммунистическую активистку и преподавательницу марксистко-ленинской политэкономии. И теперь я с печалью окидывала взором тот импортный безликий ширпотреб, в котором Ирина Муционовна замаячила на телеэкранах…
Но и с насельницами матушке было трудно. В ее распоряжении была одна-единственная настоящая инокиня, уже имевшая опыт монастырской жизни. У матушки ее постригли в мантию, и она продавала свечки. Но и с ней были проблемы — ей мешал именно что прошлый монастырский опыт, она то и дело заявляла игуменье:
— А у нас в такой-то обители было не так… А наша игуменья такой-то обители говорила…
Матушка ворчала на нее:
— Вот и сидела бы в своей обители, что ж она к нам так просилась?
Да и на меня у этой монахини началась брань — ей все казалось, что я уезжаю на монастырской машине «по своим делам» и что заливаю в свою — монастырский бензин, который отпускали мне на бензоколонке по каким-то казенным талонам. И она даже поделилась своими подозрениями с матушкой. Матушка спросила меня бесхитростно: «А как вы покупаете бензин для своей машины — по талонам или за деньги?» Я ответила: «За деньги», и она успокоилась. Но поразительно, что эта монахиня на этом не остановилась и, вызнав окольными путями имя моего духовника, пробралась к нему — жаловаться.
Он спросил меня на исповеди:
— Вы когда-нибудь заливали в свою машину монастырский бензин?
И я поняла, как же враг рода человеческого неистовствует и мучает Христовых невест! Мне было жалко эту монахиню, и мысль о том, что я забросила мужа, детей, писательство, ринувшись на помощь игуменье и чая «божественных приключений», чтобы подворовывать монастырский бензин, казалась мне просто смешной.
С остальными насельницами было не легче. Многие из них, кажется, вообще не успели стать церковными людьми: во всяком случае, когда нам пришлось всем вместе читать вслух правило к причастию, они это делали так, словно видели эти молитвы впервые и с напряженным удивлением разбирали слова по слогам: о-ле бла-го-утро-би-я Бо-жи-я…
А кроме того — матушка, как оказалось, совершенно не умела начальствовать, то есть приказывать, настаивать, делать выговор. Это было тем более странно, что когда она работала в миру, она руководила целыми лабораториями и отделами. Но в ней — может быть, в этом выражалось какое-то противостояние советской власти, стремившейся подавить личность, — было столь сильно развито, даже гипетрофировано, уважение к человеческой свободе, что матушка обращалась к своим послушницам так, как будто представляла им полную свободу выбора.
В общении со своевольным и пока еще духовно неотесанными насельницами, продолжавшими считать и в монастыре, что «они в своем праве», это создавало определенные неудобства. Ее обаятельный басок всегда звучал интеллигентно, уважительно и мягко. Разговор с насельницами происходил примерно так:
— Валентина, не хотели бы вы сегодня вымыть пол в храме?
— Ой, матушка, что-то настроения нет, что-то мне в спину вступает.
— Татьяна, а вы как себя чувствуете, вы не были бы против?
— Нет, матушка, я что-то сегодня не в духе.
— А вы, Наталья, как расположены — не хотели бы потрудиться во славу Божию?
— А у меня что-то изжога. Нет, пусть вон Лариса вымоет.
— Лариса, а вы что скажете на мое предложение — вымоете?
— Матушка, а меня в пот бросает, я лучше за трапезой житие вслух почитаю…
Мне становилось жалко матушку, растерянно смотревшую на своих новоначальных и капризничающих послушниц, и я говорила:
— Матушка, если не надо никуда ехать, то давайте я вымою.
— Во славу Божию! — радостно откликалась матушка.
Обычно это оказывало мощное воспитательное воздействие: уже через десять минут все имевшиеся в наличии насельницы ползали по полу и оттирали воск и грязь.
— Как говорил мой покойный муж, — говорила матушка, когда мы после этого садились в машину, — испортила человека Советская власть: каждый стал считать, что он должен делать то, что хочет. Самое поразительное, что она не давала для этого никаких возможностей: возможностей не было, а убеждение до сих пор живо.
Вообще матушка очень часто, особенно в минуты сугубых затруднений и скорбей, ссылалась на авторитет покойного мужа: «как говорил мой покойный муж». В устах игуменьи это звучало своеобразно, но трогательно. Было очевидно, что они прожили вместе много лет и жили душа в душу. Детей им Господь не дал, но наградил матушку внучатыми племянницами и правнуками, о которых она очень заботилась: несколько раз я возила матушку проведать их, и встречать нас выходила хрупкая, казавшаяся совсем юной внучка, облепленная со всех сторон множеством очаровательных правнуков.
Читали же за трапезой, на самом деле, не житие, а книгу «Ольховский монастырь» — про такую идеальную и тихую женскую обитель. Все там — тишь, гладь да Божия благодать. Насельницы томно вздыхали: «Вот бы и нам в такой монастырь…» В конце концов, я не выдерживала и говорила им: «Так вот вы сами у себя и создайте его». Они разводили руками: «Да как, как?» Я вспоминала нечто святоотеческое (во-первых, все-таки я была как-никак «диаконица» и потому меня «noblesse oblige», а кроме того, мне очень хотелось помочь матушке) и говорила им: «Слушайте все, что говорит вам игуменья так, словно бы это говорил вам Сам Господь». Меня поддерживала приходившая в монастырь дважды в неделю регентша Людмила, учившая насельниц церковному пению: «Для вас — человек, ближе всех стоящий к Богу, это игуменья Серафима». Они кивали и соглашались. Но на следующие день все повторялось сначала:
— Елена, вы не будете так добры почистить картошку для сестер?
— Ой, матушка, что вы, у меня что-то с утра в ухе звенит. Да и от нее потом такие руки! Такая под ногтями грязь!..
Несмотря на первоначальные уверения матушки, что работы у меня будет немного («Так только, меня забрать из квартиры в монастырь да из монастыря отвезти вечером домой, по городу туда-сюда неподалеку, совсем рядом, буквально в двух шагах!»), ездить мне приходилось с утра до ночи. Но матушка, кажется, сама не могла себе представить, в какую круговерть поместил ее Господь.
В восемь тридцать я доставляла матушку в монастырь, а обратно увозила то в девять вечера, а то и в десять, а бывало, что и в одиннадцать. А в этом промежутке мне приходилось колесить по монастырским делам практически весь день.
Так, мы ездили с матушкой по каким-то ткацким фабрикам, выбирая материю, из которых послушницам будут шить монашеские облачения и летние платья: монастырю передавалось подворье с храмом, хоздвором, огородами и полями, чтобы он мог сам себя прокормить. Предполагалось, что послушницы приступят к весеннему севу, как только сойдет с полей снег, и все лето до начала осени проведут в деревне. Для работы в полях им и нужны были эти легкие, но по-монашески скромные платья.
Однако матушке категорически не нравились предложенные ей на фабрике ткани — были они все изначально выцветшие и изощренно уродские, словно откровенный вредитель приложил к ним руку: то с какими-то салатовыми огурцами по грязно-синему фону, то с фиолетовыми цветками по желто-зеленому, то с оранжевыми домиками по лиловому…
— Кто это все так напридумывал, насочинял, нарисовал? — недоумевала матушка. — Нет, ну как я своих сестер одену в такое сиротско-старческую неряшливую безвкусицу? Я считаю, что и на монахине одежда должна быть опрятной, если угодно, стильной. Монашеский облик — это тоже проповедь. Не должно быть такого, что кто-то, увидев монахиню, отвратился бы от ее безобразного вида. Ну до юродивых нам далеко! Не будем на них равняться — это такая высота, что нам к ней примериваться — только демонов смешить! Нет, монахиня — это кто? Это невеста Христова! Что же — Христу, что ли, самое худшее, самое неряшливое и неказистое нужно отдать? Ну нет! Конечно, никогда не нужно ничем гордиться — тем паче одеждой или внешней красотой, но гордый человек, как его ни одевай, хоть в рубище, хоть в рваные какие портки, все равно найдет предмет своей гордости — рваными носками будет гордиться, грязной шеей… Так что смирение — совсем другой вопрос.
Наконец, нам повезло — достали мы для сестер просто синего ситца в мелкий белый горошек, и матушка вызвала к себе портниху — выбирать фасоны.
— Для худеньких покрой должен быть один, для полных — немного другой…
Сидела, милая, старенькая, беспокоилась, перебирая выкройки, словно собралась одевать собственных дочерей. Так я, когда ездила заграницу, ходила по магазинам и, волнуясь, покупала одежду своим дочкам: старшей Александрине — хрупкой, кареглазой, с каштановыми волосами — одно, младшей Анастасии — крепкой, голубоглазой, беловолосой — именно что немного другое.
Лейтмотивом матушкиных рассуждений всегда было:
— Вот, Господь меня в восемьдесят лет поставил игуменьей когда-то огромного монастыря. А я — что? Что я Ему скажу на Страшном Суде — Господи, так ведь я старая, я больная, я немощная, послушницы мне достались бестолковые, непослушные, монастырь разрушенный, денег нет, вот я ничего и не сделала! Так я Ему, что ли, скажу? Нет, раз Он меня определил на это место, я должна, хоть умри тут на месте, монастырь восстановить.
Это она повторяла постоянно — и когда начинала брезжить какая-то надежда на помощь со стороны, и когда дело казалось безнадежным: да к тому же и Великий Пост наступил — время сугубых искушений и скорбей.
Наконец, состоялась процедура передачи подворья монастырю. Подворье располагалось неподалеку от Домодедово: надо было ехать по Каширскому шоссе, а потом, не доезжая до аэродрома, свернуть направо к городу Жуковскому, а после него налево, и там еще километров десять, а потом снова направо по бетонке километра три.
Мы приехали туда с матушкой и тремя послушницами — ровно столько вмещалось в машину. Священник, служивший там в храме, а теперь переведенный на другой приход, отдал нам ключи и опись имущества: с тем и уехал.
И матушка, обойдя новые владения, долго еще стояла посреди поля, которое вот-вот предстояло обрабатывать неопытным городским послушницам. Ледяной мартовский великопостный ветер раздувал ее намятку и, казалось, готов был унести в пространство — туда, к темневшему лесу, саму ее маленькую сухую, совсем старческую фигурку, но матушка продолжала крепко стоять, оглядывая слезящимися глазами место, где она, восьмидесятилетняя игуменья, избранная Господом, должна была споспешествовать явлению славы Божией…
С тех пор я ездила в подворье почти каждый день — бывало даже, что и по два раза, когда надо было перевезти туда на богослужение всех насельниц. Возила я туда и всякую утварь, и припасы, и даже пожертвованных монастырю барашка и гуся: они помещались на заднем сиденье в корзинке — блеяли и гоготали.
Ездила я и за гостями монастыря — матушка отыскала людей, которые были ему причастны еще в старые времена. Например, звонарь. Он звонил в монастыре к заутрене еще когда был совсем юным, а теперь это был старенький и сухонький человечек. В монастырь его привезли знакомые, а отвозить пришлось мне. Я спросила его:
— А куда везти? Какой адрес.
Он ответил:
— Адреса я не припоминаю, но зрительно помню все. Вы езжайте, а я вам буду показывать дорогу.
Сел на переднее сиденье и принялся руководить: прямо, направо, налево. Мы проехали Люсиновскую, и где-то возле метро Тульская он вдруг вскричал:
— Скорее, поворачиваете налево, вон туда, под свод, прямо вслед за трамваем.
— А проезд-то тут есть? — с сомнением спросила я, ибо никогда не видела, чтобы сюда заезжали машины.
— Конечно, не сомневайтесь, я тут всегда на трамвае езжу. Я это место узнал.
Ну что — я повернула, куда он говорил, и поехала по трамвайным путям. Но что-то тут было не так — машин не было, асфальт кончился, зато блистали под солнцем две четкие линии рельсов. Наконец, трамваев стало попадаться все больше и больше. Они располагались в странном порядке, подобно тюленям на лежбищах — то тут, то там, вокруг них суетились люди, лица которых вытягивались, стоило им лишь взглянуть в наше сторону. У меня мелькнуло весьма даже реалистическое подозрение, что мы заехали в какое-то трамвайное депо, но я отмахнулась от него как от непродуктивного — то есть, это уже не имело значения: все равно надо было как-то отсюда выбираться. И я продолжала медленно и упорно двигаться по рельсам в направлении, указанном мне старейшим звонарем.
Казалось, впрочем, что это направление призвано явить некий замысловатый узор: все время приходилось куда-то сворачивать — то направо, то налево, и это напомнило мне занятия в школе вождения: там тоже были начертаны на асфальте какие-то линии, обозначающие повороты, но я по ним не училась, потому что тогда была зима, и линии оказались скрытыми под толщей снега. А мой инструктор просто посадил меня за руль и сразу заставил гнать в Сокольники, где его ждала старушка-мать с баулами.
Мы погрузили баулы, посадили старушку и поехали куда-то в Мневники. Там забрали еще каких-то родственников моего учителя вождения, и я по гололеду повезла их в Северное Бутово. И вообще оказалось, что у него по всей Москвы раскиданы свои люди, ждавшие нас с сумками и коробками на многоразличных перекрестках, автобусных остановках и просто где придется: мы их подбирали, перевозили и высаживали. Так я научилась водить машину, но искусно загнутые повороты мне пришлось осваивать только теперь. Итак, мы в очередной раз повернули, и тут старичок радостно закричал:
— Это здесь, здесь, я узнаю эти места, выезжайте теперь на улицу!
Действительно, впереди была улица, очень даже широкая и оживленная. Что за улица? Я потеряла всякую ориентацию, которая и в привычных условиях у меня, мягко говоря, не очень, то есть можно сказать, что, напротив, есть у меня такой «топографический идиотизм». Но теперь он был еще и усугублен путешествием по депо. Короче, мы выехали на незнакомую улицу, и тут я увидела на противоположной стороне длинный-длинный, почти километровой длины бетонный дом. Дом этот начинался примерно там, где мы юркнули в ту трамвайную арку («свод», как назвал его звонарь), и вот после всех мытарств мы вынырнули снова возле этого бесконечного дома, только в обратном направлении.
— Ой, кажется, мы едем правильно, но только в противоположную сторону, — сказал старичок.
Этот случай с заслуженным звонарем дал мне понять, что с моим профессиональным шоферством у матушки надо постепенно заканчивать. К тому же насельницы, которым все еще негде было переночевать в монастыре и приходилось уезжать на ночь домой, стали то и дело нуждаться в моей помощи автомобилиста: то кому-то надо было отвезти больного родственника в больницу, то родственницу на аэродром — понятное дело. Это помимо того, что — то игуменью в поликлинику, то документы в Чистый переулок в Патриархию, то съездить в Даниловский монастырь за гуманитарной помощью — я всегда въезжала в ворота: «Машина игуменьи Серафимы!» «Игуменьи Серафимы? Проезжайте».
Как-то раз мы с матушкой застряли в такой безнадежной пробке, что сама наша поездка уже теряла всякий смысл — мы не только не успевали к назначенному часу, но и стоя на одном месте, сжатые машинами со всех сторон, уже опоздали минут на тридцать.
Матушка поначалу нервничала и все торопила меня, хотя мы почти вплотную придвинулись к впереди стоявшей машине, но потом она как-то смирилась и стала разглядывать улицу.
— Что это за ресторанчик? — спросила она меня, указывая в сторону огромной витрины. — Здесь раньше такого не было.
— Это китайский ресторан, — ответила я. — Хороший, но очень уж дорогой. Нас с моим мужем сюда приглашал один американский славист.
— Дорогой? — удивилась матушка. — Странно. Я была в китайском ресторане в Италии, и он был очень дешевым. Китайские рестораны вообще дешевые.
— Они очень дешевые и в Париже, и в Америке, их там много, огромная конкуренция — сказала я. — Но до нас эта дешевизна еще не дошла: такой ресторан пока что один-единственный в Москве.
— Да, — согласилась матушка, — в Италии, конечно, им не выжить, если они будут драть с посетителей три шкуры. Там есть ведь и прекрасные свои национальные рестораны, и французские, и какие угодно. Мы с покойным мужем довольно часто ходили в рестораны и когда ездили на конференции заграницу, и у нас, в Москве… Порой именно там улетучивался дух «советчины»…
Я представила себе, как прореагировал бы на этот разговор игуменьи и ее шофера некто, вздумавший бы подслушивать нас со стороны, и улыбнулась.
— Что это вы улыбаетесь? — строго спросила она.
— Я улыбаюсь, потому что понимаю, что вы — счастливый человек!
— Что это вы так решили?
— Вы — внучка мученика, — начала я, — у вас был прекрасный любимый муж, вас благословил Господь в вашей работе, вы сделали ценнейшие научные открытия, которые приносят людям пользу, вы счастливы, если не в детях, то во внуках, в правнуках, которых вы любите, и даже в вашей маститой старости Господь почтил вас Своим доверием и избрал игуменьей прекрасного монастыря в самом центре России!
— Вы говорите так, словно произносите речь на моих похоронах, — смущенно засмеялась она. — Уж не собираетесь ли вы от меня уходить?
— Матушка, собираюсь, — призналась я.
— Почему? Что-то вас не устраивает? — заволновалась она.
— Все меня очень даже устраивает. Но у меня же муж, дети, любимое дело… Машина теперь у монастыря есть, шофера я вам найду. А я — сами посудите — какой я шофер? Ну колесо у нас спустит где-нибудь ночью под дождем на шоссе — что мы с вами будем делать? Стоять, голосовать, мокнуть, искать мужиков, взывать к шоферской солидарности на дорогах…
— Ну хорошо, — сухо сказала она. — Только обязательно найдите мне шофера. Верующего.
Я нашла. Это был мой мастер Саша, по образованию химик, который чинил мне мою машину. Он тогда только-только начал приходить к Церкви, и ему понравилось, что он будет возить саму игуменью Серафиму. Но матушка попросила, чтобы я так сразу не уходила, чтобы какое-то время — недели две — мы поработали с ним у нее по очереди: день — он, день — я. Ей хотелось присмотреться к Саше.
— Понимаете, шофер — ведь это доверенное лицо. Именно ему, садясь в машину, поверяешь свои первые реакции. Как говорил мой покойный муж, нет большего безумия, чем довериться лукавому человеку.
К этому времени матушка уже благословила принять постриг одну молодую девушку — ей были пошиты монашеские одежды, и я вошла в приемную матушки, когда эта без двух дней инокиня примеряла намятку. В этот момент матушку позвали какие-то посетители, как потом оказалось, — просители подаяния, вслед за ними пришли деловые люди, обещавшие открыть у нее пекарню и выпекать монастырский хлеб, вслед за ними — еще какие-то рабы Божии, предлагавшие устроить на ее территории прачечную-химчистку для церковных облачений, купить у них ткацкий станок, типографию, трактор, десять рулонов черного штапеля на подрясники, оптовую чечевицу, — впрочем, что-то такое в этом роде бывало каждый день, и мы остались с послушницей наедине.
— Страшно, — призналась она. — Все время вспоминаю свою жизнь — мечты свои вспоминаю детские, ну там о браке, детях, принцах… А вдруг меня постригут, а эти мысли опять придут — мучить и искушать?
— Конечно придут, — сказала я. — Обязательно придут. Но только — ну и что? Ты же не обязана им повиноваться? Хочешь я прочту тебе одно стихотворение — именно об этом?
— Хочу, — сказала она.
И я прочитала ей «Семь начал».
I
Выходя из города,
где хозяйничают новостройки, новоселы и нувориши,
желание выбиться в люди, быть счастливым,
убедить себя, что не страшен ад,
о дерзновеннейшая из женщин, душа моя,
не поднимай горделивую голову еще выше,
не оглядывайся назад!
II
Выходя из города, где кто-то любил кого-то,
где кто-то играл кому-то лучшую из Моцартовых сонат,
и рояль был совсем расстроен,
и у Эроса облупился нос,
и с Орфея осыпалась позолота,
о, не оглядывайся назад!
III
Выходя из города,
где праздновали дни рождений,
дорожили мнением моды,
где, на панихиде встретившись, говорили:
«Ба! Давненько не выделись!»,
пили вино и отщипывали виноград,
где болели хандрой и раком,
убивали детей во чреве и принимали роды, —
о, не оглядывайся назад!
IV
Выходя из города,
где тщеславились обильным столом,
нарядом и башмаками,
задавали себе вопросы:
«Зачем это все мне надо?» и «Что это мне дает?»,
доказывали, что добро обязано быть с кулаками,
о, не оглядывайся, душа моя, но смотри вперед!
V
Выходя из города,
на который и жена праведника оглянулась,
ибо не всякая любовь остыла,
и воспоминания разрывают грудь,
и не всякая стрела пропала,
и не всякая струна прогнулась,
но ты, о душа моя, о душа моя, об этом — забудь!
VI
Выходя из города,
в котором хоть один купол еще золотится
и хоть один колокол на высокой башне уверяет в том,
что не каждое слово — погибло,
и не каждая слеза в прах возвратится,
но ты, о душа моя, не оглядывайся: замрешь соляным столпом!
VII
Выходя из города —
уже поверженного, уже лежащего в пепле,
где даже оплакать некому своего мертвеца,
о, не оглядывайся, душа моя, —
забудь, оглохни, ослепни,
когда Господь выводит тебя из города твоего отца!
На пятом «начале» в комнату вошла матушка, но тут же остановилась у дверей, сделав мне знак рукой:
— Продолжай, продолжай!
Кто-то ворвался было за ней следом:
— Матушка Серафима, там к вам…
Она приложила к губам указательный палец, призывая к молчанию. Так я и дочитала стихотворение до конца.
Послушница пустила слезу, закивала, заулыбалась:
— Это о монашестве стихи, — пояснила она матушке Серафиме.
Матушка кивнула в ответ:
— Как говорил мой покойный муж: каждый видит в явлениях жизни знаки, сделанные лично ему.
Вскоре я покинула матушку насовсем. Саша ей понравился, полюбился, к тому же он мог в любой момент, сломайся машина, ее починить и за десять минут поставить новое колесо. Он подружился и с иеродьяконом — владельцем Победы: вместе с ним ощупывал добротный нержавеющий корпус, вдыхал в его кабине невыветриваемый дух эпохи, создавшей эту ВЕЩЬ. Саша ходил на все монастырские службы и многое узнал о Церкви, как он того и желал. И все было хорошо. Но через несколько месяцев он взял и женился на одной из самых достойных послушниц. То есть увел ее у матушки. И матушка его прогнала.
Когда она умерла, у меня было воспаление легких, и я никак не могла придти на ее отпевание. Поэтому я в полной мере не пережила ее смерть. Но то, что я говорила ей, когда мы сидели в машине, запертой в уличной пробке, я сказала бы и сейчас. К блаженным ведь продолжаешь обращаться и по их смерти.
Пока я шоферила у нее, вроде бы подкармливая в себе этим знакомый дух авантюризма, оказывается, я у нее научилась самой постановке жизни: «Господь мне поручил, а я… Господь скажет мне: вот, Я тебя призвал на такое-то дело, Я тебя избрал, Я тебе доверил, а ты, а ты…»
Кажется, именно в этом и был для меня главный смысл пребывания в чине шофера игуменьи Серафимы. Может быть, и она помянет меня там, «идеже праведнии упокоеваются» и сияет в свете Преображения ее Новодевичий Смоленской иконы Пречистой Богородицы женский монастырь. По каким-то неуловимым признакам я чувствую, что любовь эта была взаимна.![]()