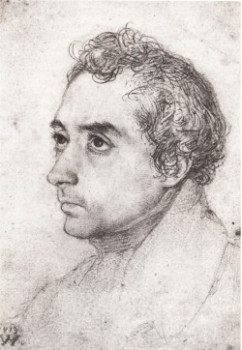Доклад на конференции памяти
Ich lass schon lang…<…>
Und wenn ich jetzt vom Buch die Augen hebe,
Wird nichts befremdlich sein und alles gross.
Dort draussen ist, was ich hier drinnen lebe,
Und hier und dort ist alles grenzenlos.
Мне хотелось бы в качестве эпиграфа взять все это стихотворение Рильке («Читающий» в переводе Б. Пастернака «За чтением») целиком: в этом описании глубокого чтения (как бывает глубокий сон), внимания, уходящего в книгу, как в штольню, и возвращающегося наружу, к земле и первой звезде, я вижу фигуру Сергея Сергеевича Аверинцева, особенно того Аверинцева, которого мне встречать не пришлось, — мальчика, подростка…
Все мое сообщение представляет собой комментарий к словам
Тем не менее, от «чтеца» не так далеко до «читателя» (можно вспомнить в связи с Аверинцевым и о «чтеце» в другом, светском смысле,
Упомянув «блаженную бессмыслицу», мы уже приближаемся к непосредственной теме моего сегодняшнего сообщения — к чтению Клеменса Брентано.
Сергей Сергеевич читал мне вслух хореические строфы из «Романсов о Розарии», предлагая разделить с ним восхищение этой звуковой силой стиха:
Singt die sieben letzten Worten,
Singt sie mir, ihr grauen Schwalben!
Singt ihn mir, den Schild der Todes,
Singt den Held des Untergangens!
Пойте мне эти последние семь слов, Пойте их мне, серые ласточки! Пойте мне его, щит смерти, Пойти героя гибели!
Все это происходило летом 1985 года в его квартире на проспекте Вернадского, он рассказывал, что готовит томик Брентано на немецком для издательства «Радуга». И читал вслух строфу за строфой. Однако чтение Аверинцева, о котором мне хочется сказать, — не это завораживающее чтение вслух. Прежде, чем о нем наконец попытаться сказать, позволю себе еще несколько слов общего характера.
Суровые «специалисты» часто укоряют Аверинцева в том, что его герменевтика — не филология в серьезном смысле слова, не наука, что его письмо «не научно». Филолог в таком толковании — не читатель, и это принципиально. Читает он «для себя», а с текстами и авторами «работает». И когда работает, он должен всеми силами разучиться быть их читателем. Своего рода профессиональная аскеза. А результаты работы он излагает не на языке, а на метаязыке. Аналогии обычно приводятся из естественных наук. Зоолог, изучая слона или муравья, никак к ним не относится. Читатель же — это тот, кто относится, кто воспринимает и отзывается. Аверинцев знал, на что идет, когда выбирал свою позицию в эпоху позитивизма и специализаций. Он знал несопоставимо больше своих критиков. Вероятно, многие зоологи не относятся к слонам и муравьям, которых наблюдают и описывают. Но чтобы открыть межчелюстную кость у человека, как Гете, необходимо относиться: относиться к природе вообще и к такой ее составной, как строение черепа. Чтобы так писать о текстах и авторах, как пишет Аверинцев, надо знать
Впрочем, наши радикальные позитивисты даже в своей профессиональной области знают не все. «Сultivated reader» — главный герой филологии другого склада, такой, как у Вольфганга Изера (с его «Актами чтения»), Ганса Яусса и других, не говоря уже о герменевтике П.Рикера или Гадамера. «Идеальный» или «культивированный» читатель противоположен тому, что называется «современный читатель». Этот тип преобладает у нас не только среди писателей, которые позицию «современности», то есть
И все, что будет, — только обещанье.
Идеальный читатель противоположен «читателю современному» в характерном смысле этого слова. Но он никак не читатель «вневременной», читающий sub specie aeternitatis. Он читатель своего времени. Можно сказать, в его чтении читает само его время и место: читает то, что ему особенно нужно здесь и сейчас. Именно так Аверинцев читал Аристотеля — исходя из актуальнейшего чувства момента в отечественной истории, которой «роковым образом не хватало Аристотеля». Это не сужает чтения, наоборот: расширяет его. Внятным становится текст, который глубоко и неотложно нужен. Аверинцев — великий читатель и потому, что он в другом, серьезном смысле современен своему времени; его словами: «времени нужны не те, кто ему, времени, поддакивает, а совсем другие собеседники». Парадокс великого читателя в том, что он читает «не для себя» и не по причине собственных персональных нужд: так читает обывательский читатель (он совершенно вправе читать так, но никто не назовет его «великим читателем»). Великий читатель — чтец, который в акте своего понимания оглашает текст своему времени, своей стране — всей истории, наконец. Аверинцев не только изучал историю — он к ней обращался, он ее вразумлял. Одно из последних его выступлений, в Римском Сенате, содержало среди другого и напоминание депутатам Парламента о том, что Европа начинается в Греции, которую Европейские Штаты теперь если и включают в свою общность, то
«Великий русский читатель» — этот второй эпитет тоже нуждается в комментарии. Однако для такого комментария нужно ясно представлять себе, что такое русский читатель (а это явно особый род читателя, как заметил Гете по письмам к нему русских читателей «Фауста»: «Они тебя совершенно присваивают и заглатывают» — чем отличаются от французких или немецких
Наконец, перейдем к чтению Клеменса Брентано, то есть к вступительной статье Аверинцева в томике, составленном и прокомментированном им. Сколько таких чтений предложил Аверинцев — в энциклопедических статьях, в разнообразных вступлениях к разным книгам, в написанных им главах в академических историях разных литератур! Жанр предисловия — не исследование, и в нем выбор позиции читателя кажется самым естественным. Однако статистически это не так. Предисловие (особенно предисловие советских времен) обыкновенно совмещает в себе два жанра: энциклопедической справки и повтора «общепринятых» мнений (что принято «объективно» знать о данном авторе) — и, одновременно, индоктринации («как правильно понимать данного автора»). Советское предисловие должно было
Во всех своих предисловиях Аверинцев виртуозно избегал второго задания предисловия (перевода на идеологический язык) и превращал первое, сообщение необходимых сведений, в увлекательную новеллу. Так и здесь выглядит очерк биографии и времени Брентано. Что же касается «общепринятых мнений», он их с удовольствием опровергал (здесь он смеется над расхожим мифом о Брентано как «великом неудачнике», поэте, не осуществившем свой дар). Но первая задача составителя тома названа сразу же: «Будем надеяться, что эта книга будет прочтена… так, как она того заслуживает, — как стихи, живые до крови, до боли, как в момент своего рождения». Он ведет Брентано к нам — и нас к Брентано. Он как бы поручается за его ценность — и мы верим ему. Скольких поэтов мы прочли только потому, что о них рассказал Аверинцев! Нужно признать, что воскресение Брентано ему все же не удалось. Время Брентано — в отличие от времени Гельдерлина — так и не настало, ни в мире, ни у нас.
Что Аверинцеву, читателю (как мы его пытались описать) важно в итальянском немце, в начале жизни —
И все же главная причина внимания Аверинцева к Брентано, как видно из предисловия, — сама словесная стихия его поэзии, небывалая звучность и сила его «щебечущего» стиха, которую он описывает как умную звучность. Звуковой повтор — скажет «профессиональный» филолог, и не найдет признаков, по которым можно различить «магическую» фонетику Эдгара По и бодрую игру звуков у Брентано. «Идеальный читатель» Аверинцев делает это различение не усумнясь. Описание фоники Брентано, связывающее ее с древними народными песнями и средневековыми латинскими гимнами, блестяще. «Древняя, как человечество, стихия вопля и ритуального плача, безличная, как полагается стихии…» Мы видим, что читателю в действительности требуется знать куда больше, чем «специалисту»: какой германист будет, говоря о Брентано, рассуждать с толком о гимнах Аквинского и о лирике французских сюрреалистов? «Горизонт ожиданий» — так это называется в теории «актов чтения». Горизонт ожиданий идеального читателя почти необозрим.
Аверинцев не был бы великим читателем, и великим читателем поэзии в первую очередь, если бы ему, человеку, восстанавливающему репутацию рациональности и реабилитирующему схоластику и риторику (вещи, подорванные романтизмом), не была бы так внятна и дорога «древняя стихия» словесности, властная и неосмысляемая, умная, но не умственная: чудесная. В ее водовороте скорбь и страдание оказываются странной радостью — любимая тема Аверинцева: «Если так грустно, то почему так весело?»
Alle Leiden sind Freuden, lle Schmerzen Scherzen
Und das ganze Leben singt aus meinem Herzen:
Susser Tod, susser Tod
Zwishen den Morgen — und Abendrot!
«Все страдания — радости, все беды — шутки И вся жизнь поет из моего сердца: Сладостная смерть, сладостная смерть Между утренней и вечерней зарей!»
А потому, в частности, весело, что страдания — Leiden — отлично рифмуются с радостями — Freuden, беды — Schmerzen с шутками — Scherzen и сердцем — aus Herzen. Древняя стихия плача не может без игры, она в нее переливается.
Так в Брентано звучит это вечное слово всякого поэта, слово о
Читательский опыт Аверинцева о Брентано оборачивается опытом о природе поэзии вообще — и о природе поэта: существа, которое хочет ускользнуть, исчезнуть, быть никем, не оставить следа по себе. Тут Аверинцев вспоминает Цветаеву:
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах… —
и с хитрой простотой сообщает читателю: «Поэты, они такие!»
А откуда он знает, какие они? Он знает это по себе. Потому что «идеальный читатель» — поэт. Не в том смысле, что он и сам может писать стихи. А в том, что читая, он открывает в себе поэта. Иначе поэзии не прочтешь.
Итак, что в конце концов делает читатель? Он — по древнему совету — познает себя.
Dort draussen ist, was ich hier drinnen lebe,
und hier und dort ist alles grenzenlos.
ПРИМЕЧАНИЯ: