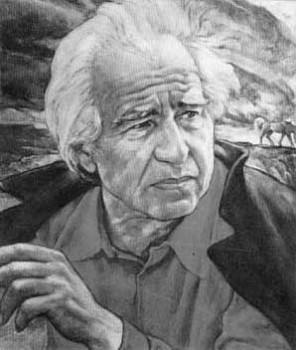Мне в жизни пришлось написать множество автобиографий, коротких и развернутых, в зависимости от того, куда меня принимали. Самая интересная, на мой взгляд лежит
Родился я в городе Кемерово в 1918 году не то 23 февраля, не то 7 марта. При получении паспорта на мой запрос мне выслали метрику с мартовской датой, а несколько лет назад — с февральской. Дело в том, что календарная поправка была внесена в год моего рождения, когда к Сибири орудовали Колчак и генерал Гайда, которые советских установлений, разумеется, не признавали. Одним словом, впредь до выяснения имею два праздника и промежуток между ними.
Рожденный в городе, считаю себя целиком деревенским. Мне и года не было, когда семья, в которой я был девятым ребенком, переехала в деревню. Прокормить такую ораву в городе
Отца, Дмитрия Харитоновича, помню смутно. Через несколько лет после переезда в Марьевку, успев дать мне ещё двух братьев, отец умер от тифа. По рассказам старших, он был веселым человеком. Любил азартные игры, кулачные бои и красивые слова. Зипун, и без того слово нерусское, он называл хламидой: «Ульянка,
По сенюшкам Авдотьюшка гуляла,
По новеньким Авдотьюшка ходила,
Из кармашика орешики щелкала
И в оконушко шелушицу бросала,
И в Васильевы кудри попадала,
Димитричевы кудри воспетляла,
Чтобы, чтобы Васильюшка оглянулся
И своей красавице восмехнулся…
Один из критиков однажды заметил, что в моих стихах и поэмах много снов. Правда. Это, наверно, от моей мамы, Ульяны Наумовны. Ей часто снились сны, притом почти всегда сюжетные. Она умела их рассказывать и разгадывать. А ещё она умела причитать по умершим. Она не плакала, а
К моему сочинительству она относилась терпимо, даже потом, когда оно отрицательно сказывалось на нашем материальном благополучии. Никаких выгод от моего писания она и не ждала. Помню, в новосибирской квартире, где мы долго жили, был закуток, нечто вроде ванной, где ванны, однако, не было, а стояла деревянная бочка. В ней хранился мой литературный архив. Ко времени отъезда в Литературный институт имени Горького она была полной. Однажды, по приезде домой, мама повела меня к этой бочке.
— Тут у тебя
Бочка была большая. Запустил в нее руку, взял первое попавшееся. Посмотрел. Разбираться в хаосе бумаг не захотелось. Сказал:
— Да бери все, только вот, где будут короткие строчки,- это стихи, ты их оставляй.
Мама даже обиделась:
— Ну, разве я не понимаю. Где стихи, я вижу…
В первом томе два первых раздела и часть третьего составлены из стихов, оставшихся на дне той бочки. Многие из них будут печататься впервые, некоторые — из педагогических соображений, чтобы начинающие не очень отчаивались при первых неудачах.
Читать я научился до школы, а писать — до того, как прикоснулся к чистой бумаге. Случилось это от большой нужды. У меня не было своих валенок. Мне приходилось сидеть на полатях, смотреть сверху и слушать, как старшие братишки торопливо готовили уроки, чтобы убежать на улицу. А писал я пальцем по воздуху, чаще всего в темноте или полумраке. Слово, написанное таким способом, долго светилось перед глазами. Тогда же я написал первое стихотворение. Оно было о поморах. Многие, более поздние, забыл, а начало первого помню:
Плывет моряк по морю,
И станет он тужить:
Неужто на той льдине
Ему придется жить?
Желание сочинять стихи пришло не случайно. Их сочинял двадцатилетний брат Петр, организатор и первый секретарь комсомольской ячейки. Стихи и частушки были его оружием. В деревне молодежные гуляния назывались «улицей». Идет группа ребят, девчат и под гармошку горланят частушки. С другого края вторая группа — и тоже со своими частушками. Сходились у казенных амбаров. Начинался настоящий частушечный бой.
Удивительно, но факт: деревенские ребята с
Может, об этом не стоило бы писать. Но в данном случае мне хотелось дать ту атмосферу, в которой проходило мое детство. Все новые стихи брат прочитывал в семейном кругу, а уж потом уходил с ними к своим товарищам.
Братьям же, Петру и Андрею, я обязан ранним знакомством с настоящей литературой: с Пушкиным, Лермонтовым, Байроном, Купером, Лонгфелло. Ставшие вскоре комсомольскими, а потом партийными работниками, призванными в города, они торопились восполнить недостаток образования. Если в разговоре с ними
Напомню: в семье я был девятым ребенком. Для биографии моей души это имело большое значение. Однажды, просматривая очередной привоз Петра, я натолкнулся на
Старшим братьям и сестрам я обязан не только любовью к поэзии, но и постоянным интересом к
Итак, писать я начал рано, а печататься активно очень поздно. Виной тому, вероятно, послужила моя первая попытка появиться в газете «Большевистская смена». Это было в Новосибирске, кажется, в 1936 году, когда я учился в авиатехникуме. Подписал я свои стихи деревенским семейным прозвищем: Василий Лехин. Для маскировки. Отослал, стал нетерпеливо ждать того номера газеты, где… И дождался. В обзорной статье о присланных стихах — от Василия Лехина летели клочья. Мои стихи оказались упадочными. Правда, в 1939 году в одной заводской многотиражке я напечатал несколько стихотворений и очерков, одно стихотворение даже в областной комсомольской газете, но значения этому не придал, считая это случайностью. Разнос в «Большевистской смене» так на меня подействовал, что и теперь вхожу в редакции с тайным страхом. Если же стихи принимают хорошо, я начинаю относиться к ним подозрительно.
Для моей литературной судьбы большое значение имел тот факт, что после окончания авиатехникума в 1938 году я около девяти лет проработал на авиационных заводах в качество технолога, мастера, старшего мастера. В годы войны мне довелось строить истребители и бомбардировщики. Умение читать чертежи развивает воображение, приучает мыслить пространственно, видеть одну и ту же деталь сразу в нескольких плоскостях. В моей заводской работе было много однообразного, но было и подлинное вдохновение, не меньшее, чем при работе над стихами.
Примерно за год до Отечественной войны мы начали осваивать новую модель самолета. Помню, в нашем цехе скопилось около пятидесяти аварийных деталей, без которых — даже без одной — самолет не мог получить жизнь. Мне предложили стать
В Новосибирске я познакомился с профессиональными поэтами и прозаиками. Там я начал печататься в журнале «Сибирские огни», а в 1947 году издал первую книжицу «Лирическую трилогию», состоящую из трех небольших поэм. Вторая же книга стихов вышла только через восемь лет. На это были свои грустные причины. На Первом совещании молодых писателей я был хорошо принят семинаром Николая Асеева. Тогда же познакомился с Александром Твардовским, который, прочитав «Марьевскую летопись», сказал: «Отрадно». После этого меня охотно перевели с заочного на очное отделение Литературного института. Мое имя начали одобрительно упоминать в столичных газетах. А по окончании института отказали в дипломе. Правда, вскоре без моей просьбы поставили мне тройку за творчество и диплом выдали, не столь торжественно, как другим, но выдали.
Поздней, оглядываясь на то время, я увидел несколько причин для объяснения истории с дипломом. Одной из причин было мое неумение распорядиться стихами при составлении диплома. Многое из того, что в настоящем томе составило три первых раздела, не было напечатано, а потому и не включено в диплом. Журналы, мягко говоря, не очень охотно печатали мои стихи и, возвращая, создавали вокруг них атмосферу сомнительности, которая сбивала с толку и меня, и моих оценщиков. Кроме того, среди последних были и такие, которые не принимали мои стихи
Было о чем поразмыслить. На это ушло несколько лет. Стихи я
Молодые поэты бывают нетерпеливыми: написал — и скорей в редакцию. Зрелые сознательно сдерживают себя: написал — пусть полежит… Почему я не сразу напечатал то, что можно было напечатать, то есть когда уже представилась возможность? Если стихи лежат долго, их должна призвать жизнь. Они печатались по времени призыва: десять лет назад — одни, пять лет назад — другие. «Притча», прождав четверть века, появится только в этом году. Мертвых жизнь не призывает.
В отличие от стихов, мои прозаические опыты почти все газеты и журналы, с которыми я имел дело, печатали охотно. Это были очерки. Они появлялись в «Сибирских огнях» и «Новом мире». Долгое время я сотрудничал в «Крестьянке», «Огоньке», «Смене». Несколько документальных вещей вышли отдельными книжками в Новосибирске и Москве. В 1955 году отдельной книгой появилась повесть «Добровольцы», уже не связанная документальностью. Для поэта работа очеркиста очень полезна. Мне она дала материал для многих стихов и поэм.
Несколько слов о том, почему мои поэмы выделены в отдельный том, а не поставлены среди стихов по времени их написания. Прежде всего потому, что у моих поэм есть своя логика развития, видимые и невидимые связи, которых нельзя нарушать. В «Лирической трилогии», например, заложены многие последующие темы: «Марьевская летопись», «Далекая», даже «Бетховен», не говоря уже о «Седьмом небе», в котором читатель обнаружит прямую связь с «Трилогией».
Писать поэмы я начал так же рано, как и стихи. Прежде чем напечататься, мне пришлось испытать несколько поучительных неудач. В нашей деревне по курным баням жила пришлая чувашка Кирсаниха с сыном Яшкой, моим ровесником. У него была шапка
Поздней мной была написана романтическая поэма «Владимир и Людмила». Oн — поэт, она — цыганка, отбившаяся от своего табора. В то время в деревне работали два молодых учителя. Пришел к ним, прочитал поэму. Она им понравилась, но оба нашли её незаконченной. Один из них посоветовал, чтобы я свою диковатую цыганку «привел» к ним в школу. Так я и поступил, но поэма разладилась. У поэмы должны быть внутренние законы развития. Всякие внешние привнесения разрушают её. В этом мне приходилось убеждаться не раз.
Захватил себя на мысли: не слишком ли акцентирую на трудности своего пути в поэзию, не слишком ли подробно описываю свои неудачи? В этом есть смысл.
Представляя читателю свой двухтомник, я старался избегать даже сравнительных оценок своих стихов и поэм, хотя и знаю, что их качественный уровень не одинаков. Книга поэта — не коробочка некрасовского коробейника, из которой в зависимости от случая можно вытянуть или яркую ленту, или темную шаль. Она более похожа на магазин без продавца, с той лишь разницей, что здесь платят за вход. Последнее обстоятельство обязывает к строгому отбору вещей, но кто знает, — может быть, вещь сама по себе и неказистая, а человеку в данную минуту всего нужней.
Москва, июнь 1969 г.