О священнике, духовнике, настоятеле вспоминают его духовные чада.
Вспоминает протоиерей Владимир Воробьев:
— Отец Всеволод был гениальным духовником, он имел дар за несколько минут привлечь любого человека, пришедшего к нему. Самые разные люди приходили: советские чины, писатели, музыканты, ученые, простые люди, мужчины и женщины, пожилые и молодые. Отец Всеволод умел добраться буквально до сердца каждого и с такой любовью обратиться к человеку, что тот сразу открывался ему навстречу. Любовь пастырская, конечно, должна быть свойством каждого духовника, но встречается в таком ярком виде, в такой полноте очень редко.
Никогда не был отец Всеволод сентиментальным, сусальным, в нем не было никакой фальши. Он никогда не был формалистом, никогда не исходил из
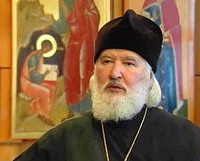 Кроме того, он умел буквально в нескольких словах показать, что такое вера в Бога. То есть, не просто философское мировоззрение или традиционное воспитание, но живое переживание единства с Богом, общения с Ним. Он так ярко давал это почувствовать, что после разговора с ним человек уже понимал, что такое другая жизнь. Он сознавал, что такого он нигде не видел и не слышал и что это драгоценно для него. И человек, который хоть однажды поговорил с отцом Всеволодом, обычно уже не уходил никуда, он старался общаться с ним, насколько это было возможно.
Кроме того, он умел буквально в нескольких словах показать, что такое вера в Бога. То есть, не просто философское мировоззрение или традиционное воспитание, но живое переживание единства с Богом, общения с Ним. Он так ярко давал это почувствовать, что после разговора с ним человек уже понимал, что такое другая жизнь. Он сознавал, что такого он нигде не видел и не слышал и что это драгоценно для него. И человек, который хоть однажды поговорил с отцом Всеволодом, обычно уже не уходил никуда, он старался общаться с ним, насколько это было возможно.
На исповеди отец Всеволод никогда не копался в
Отец Всеволод был человеком незаурядным, поэтому ему всюду было трудно: и в Болгарии, и у нас в стране. Бывают люди на голову выше окружающих по своим талантам, по своим дарованиям. Он был очень ярким, богато одаренным человеком, и вместе с тем он был очень смиренным. Отец Всеволод в каждом человеке очень быстро находил добро и к этому доброму обращался. Вот приходишь к нему, он скажет несколько слов, и ты чувствуешь себя на голову выше, чем был, все обыденное и скверное уходит, и просыпается все самое хорошее. Он мог возвысить тебя и очень быстро направить к Богу.
К послушанию отец Всеволод никогда не относился формально. Он не только давал свободу человеку, но считал это необходимым. Он даже говорил о том, что та система послушания, которая в России существовала до революции и вскоре после нее в замечательных и известных общинах в
Отец Всеволод считал, что нужно обязательно раскрывать в человеке его свободу, собственное предстояние пред Богом. Нужно человека научить быть наедине с Богом. Отец Всеволод считал, что духовная жизнь — это тайна общения двух личностей, Бога и человека, и между ними вставать не должно. Нужно приводить человека к Богу. Духовник должен не мешать, а помогать этому. И он умел это делать.
Он всегда очень хорошо относился ко всякой доброй инициативе. Я помню, что он никогда не делал никаких замечаний другому священнику, хотя и был намного старше, опытнее. Он очень уважительно относился ко всем своим сослужителям. Если
Сам отец Всеволод был очень радостным человеком. Он умел радоваться о Господе. У него был еще такой дар: очень тонкое чувство юмора. Это чувство юмора его не покидало никогда, даже в самых тяжелых обстоятельствах он умел пошутить над самим собой. Вот один пример: у него был инсульт, вызвали скорую, и его на носилках санитары выносили с пятого этажа. В это время навстречу в подъезд вошел
В старости он уже служил из последних сил, его надо было поддерживать под руки. Он неоднократно хотел уйти за штат, но отец Павел (Троицкий) ему не позволял, и патриарх Пимен тоже, и он послушно служил, хотя уже сил не было. До самой последней возможности он приезжал в храм и служил. Всегда после службы его ждал народ, прося благословения. Хотя у него уже и сил благословлять не было, но он обязательно пошутит, улыбнется. И в этом смысле очень показательна его кончина. Он скончался 8 января, на второй день Рождества, а перед праздником он получил письмо от отца Павла. Ему стали его читать, но даже слушать ему было трудно, он только сказал: «Там написано: Христос Воскресе!». И трижды повторил «Христос Воскресе!» И это были его последние слова.
Каждого человека он старался не придавить, не превратить в ничего не значащую, грешную, маленькую негодную личность, которая только кается и больше ничего, а стремился каждого человека возвысить, вдохновить, поднять из его немощи, открыть ему другой горизонт, другое мироощущение. И поэтому каждый человек от него уходил возрожденным.
Вспоминает протоиерей Николай Кречетов:
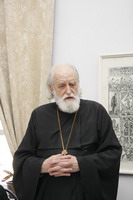 — Все пастырство о. Всеволода было пастырством любви. И, прежде всего, это проявилось в его евхаристическом служении. Ведь когда он пришел в
— Все пастырство о. Всеволода было пастырством любви. И, прежде всего, это проявилось в его евхаристическом служении. Ведь когда он пришел в
А отец Всеволод всех прихожан звал к Чаше, к регулярному причащению, и по великим праздникам уж само собой разумеется. Это ведь наше Таинство Любви — Таинство Таинств! Я уж не говорю, что каждую Литургию священник произносит слова: «Со страхом Божиим и верою приступите». Иоанн Златоуст говорит: «Ты стоял, слушал, пел молитвы и уходишь, не причастившись». Отец Всеволод зажег огонь евхаристической жизни по всей Москве.
С ним было удивительно тепло, спокойно и ясно. Как он неспешно, глубоко и выразительно произносил возгласы на Божественной литургии, как он двигался — все было подчинено евхаристическому ритму. Он следил за тем, чтобы я, тогда еще дьякон, вовремя вошел, вовремя перекрестился, вовремя поклонился, например, перед «Мир всем» или «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». К сожалению, и сейчас это встречается, особенно среди молодого духовенства, которые часто не знают традиции, возглас «Мир всем» или
А еще отец Всеволод обладал абсолютным слухом, и надо сказать, может быть, это малоизвестно, когда он был в киевском кадетском корпусе, он был полковым запевалой. У него была удивительная дикция, он говорил негромко, но его было слышно во всех уголках храма. Однажды, когда я с ним служил, он поставил меня рядом и сказал: «Стой, слушай, как надо читать!» — и произнес великую ектенью. Потом говорит: «Вот так надо читать!» С тех пор я уже всю жизнь так читал.
Отец Всеволод удивительно читал Евангелие, особенно Страстные чтения. Сначала, по своему дремучему невежеству, я полагал, что у него это
Вспоминает протоиерей Александр Салтыков:
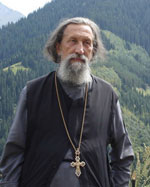 — Я даже вижу перед собой отца Всеволода. Могу сказать, вижу его постоянно, не
— Я даже вижу перед собой отца Всеволода. Могу сказать, вижу его постоянно, не
Отец Всеволод имел подход к людям, ведь к нему приходили очень разные люди. Есть много духовников, которые имеют подход к большому количеству людей. Это и есть хорошие духовники.
Нас, молодых людей, в нем привлекало нечто необыкновенное. Необыкновенно было уже просто то, что это был человек из другого мира, другой культуры, во многом уже утраченной.
То, как он стал моим духовником, это случай настолько замечательный, необычный и глубокий, что это невозможно так просто рассказать и, наверное, не нужно. А когда я уже оказался в его пастве, то понял, что Бог привел меня к значительному человеку, к большой личности. Вообще он, мне казалось, имел перед собой сложившийся образ человека. Он к встрече со своим чадом духовным или просто с человеком готовился, думал о нем. Можно сказать «анализировал», «оценивал», но я боюсь этих слов, потому что это все
В духовничестве главное — любовь, любовь к человеку как к своему чаду; в духовничестве должна выстраиваться система отношений, как в хорошей семье. Хороший духовник — это духовник, который относится к каждому человеку
Отец Всеволод имел, в свою очередь, и своего духовника, замечательного старца Павла (Троицкого), и это ему очень помогало в его духовничестве, ведь в сложных случаях он советовался с отцом Павлом о своих духовных чадах. Духовник и старец — разные вещи. По моему мнению, Бог послал ему этого старца, который жил в глуши, в лесу, прошел тяжелейший тюремный искус в своем духовном возрастании и сподобился от Господа многочисленных духовных даров, прозорливости, мудрости. Отец Всеволод был с ним в ближайшем духовном единстве. Думаю, Господь послал его отцу Всеволоду, чтобы он был с ним в вечности.
Тут есть один особенный момент, который встречается очень редко — явление полного духовного единства. Один был далеко, пребывал в непрерывной молитве, другой был здесь и свидетельствовал о Боге перед обществом, но действовали оба в полном единстве. Так было перед обществом и перед отдельными людьми, потому что, я повторяю, на самом деле это неразделимо: каков священник в общении с частными людьми, таков он и в обществе.
Понять, помочь, решить
Я его от себя не отделяю никогда, даже сегодня, именно потому, что он в своем подвиге сострадания душе кающегося с этой душой соединялся. Это не просто «прощаю и разрешаю», всех прощаю и разрешаю, и все. Господь, конечно, прощает и разрешает, а священник здесь сказал: «Я — ржавая труба». Тут подвиг сострадания.
Мы все чувствуем себя отцу Всеволоду обязанными. Он определил путь многих своих прихожан. Это самое главное — дар сопереживания, дар Христова сострадания, высший образец которого нам дает сострадание Божией Матери Христу, когда «душу оружие пройдет». Вот это сострадание, не словесное, а сердечное, настоящее, церковное сострадание, Христово сострадание, вот это и есть дар духовничества, который встречается очень редко. Именно он был в изобилии у отца Всеволода.
Вспоминает протоиерей Валентин Асмус:
 — Отец Всеволод воспитывал уже самим своим внешним видом. В Болгарии он имел длинные волосы, ходил по улице в рясе. В Москве он ходил в светской одежде, подстригал волосы и подбривал бороду. И то, и другое имело один и тот же смысл — не выделяться из среды местного духовенства, быть «как все», думать не о внешнем, а о том, что более важно.
— Отец Всеволод воспитывал уже самим своим внешним видом. В Болгарии он имел длинные волосы, ходил по улице в рясе. В Москве он ходил в светской одежде, подстригал волосы и подбривал бороду. И то, и другое имело один и тот же смысл — не выделяться из среды местного духовенства, быть «как все», думать не о внешнем, а о том, что более важно.
Известно, как отец Всеволод почитал монашеский чин. Помню, как он пытался поцеловать руку у простого, не в сане, молодого монаха.
Все служение отца Всеволода проходило в послушании двум старцам — Архиепископу Серафиму (Соболеву) и иеромонаху Павлу (Троицкому), которого он обрел вскоре после того, как расстался с Владыкой Серафимом. Во всех важнейших жизненных вопросах отец Всеволод следовал старческим советам, даже если они давались наперекор его собственным видам. Однако же в области богословия (в самом широком смысле) отец Всеволод не считал себя связанным послушанием старцу. По поводу полемики Архиепископа Серафима против протоиерея
Когда в Болгарии русские монахи развернули борьбу против нового календаря, введенного Болгарским Патриархом Кириллом, отец Всеволод, конечно же, зная о резких высказываниях Владыки против нового календаря, выражал уверенность, что в данных условиях Владыка не поддержал бы борьбу верных своих
Всем этим и многим другим отец Всеволод учил нас церковности, ограждая от любых крайностей, свойственных молодости, находивших благоприятные условия для развития при ненормальных кондициях церковной жизни эпохи «развитого социализма».
Вспоминает протоиерей Алексей Емельянов:
 — У отца Всеволода на исповеди я был
— У отца Всеволода на исповеди я был
Итак, я оказался в исповедальной комнатке на колокольне Никольского храма. У отца Всеволода был совершенно особый дар духовничества, и этот его дар был еще пророческим. Мне довольно сложно сейчас рассказать подробности той исповеди у отца Всеволода, но я могу утверждать, что он меня почувствовал… Хотя, как это часто бывает,
Вспоминает Андрей Борисович Ефимов:
 — Служение отца Всеволода всегда было служением любви. И его духовничество — это духовничество любви. Чтобы понять это, чтобы почувствовать прикосновение его сердца, достаточно было просто прийти к нему на службу. Его священническое служение всегда было, как общение с возлюбленными. Оно всегда было нестандартным, оно всегда было непохожим даже на предыдущие его советы или требования. Не только его пастырские советы, или рекомендации, или даже четкие указания, но все в них было непохоже, все в них было абсолютно живое, никакой формулы, никакого стандарта, и поэтому очень непросто это служение охарактеризовать. Его можно было только переживать сердцем и душой.
— Служение отца Всеволода всегда было служением любви. И его духовничество — это духовничество любви. Чтобы понять это, чтобы почувствовать прикосновение его сердца, достаточно было просто прийти к нему на службу. Его священническое служение всегда было, как общение с возлюбленными. Оно всегда было нестандартным, оно всегда было непохожим даже на предыдущие его советы или требования. Не только его пастырские советы, или рекомендации, или даже четкие указания, но все в них было непохоже, все в них было абсолютно живое, никакой формулы, никакого стандарта, и поэтому очень непросто это служение охарактеризовать. Его можно было только переживать сердцем и душой.
Отец Всеволод говорил, что хороший духовник знает состояние своих духовных чад и что с ними происходит. Но такое знание, такое проникновение в души людские возможно только в духовничестве любви.
ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ШПИЛЛЕР
Родился 14 июля 1902 г. в Киеве в семье архитектора.
1917 г. (конец октября) — участвовал в боях в Киеве, был ранен (в Киеве, сохранившие верность присяге солдаты и офицеры русской армии и воспитанники военных училищ, противостояли частям украинских националистов и отрядам «красных»).
С 1921 г. в эмиграции (Константинополь, Галлиполи, затем в конце 1921 г. переехал в Болгарию).
1927 г. поступил в Софийский университет (Болгария).
1934 г. женился на Людмиле Сергеевне Исаковой.
1934 — рукоположен в сан диакона, затем — в сан священника.
Служил на приходах в Болгарии под омофором архиепископа Серафима (Соболева) в храме Успения Божией Матери в г. Пазарджик (1934–1944) и в г. София (1945–1950).
1950 — вернулся с семьей в Россию (СССР).
С 1951 г. по 1984 г. был настоятелем храма свт. Николая в Кузнецах. Долгое время жил с семьей в квартире, обустроенной в колокольне
Скончался 8 января 1984 г. в Москве. Похоронен на Кузьминском кладбище.
