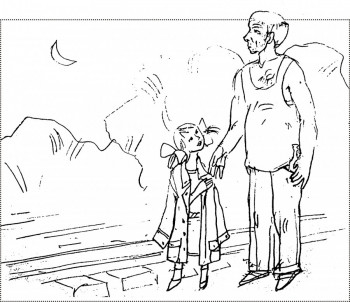Повесть в рассказах
МЕМУАРЫ ДЯТЛОМ
— Купи печатную машинку! — огорошил отец Елену.
— Ты чё, пап?
Печатанье лучше, чем пиво варить, но ведь блажь. Врач после инфаркта огорчил деда: бражка, сказал, голимый яд для сердечной мышцы. На что изощрённая голова ветерана придумала выход — домашнее пиво. Оно потому и пиво, что не бражка. Значит, вреда никакого. Дед засел за литературу. Параллельно заказал Елене ячмень достать и хмель для варки солода. На то и папина дочь, чтобы почуять: от самодельного пива до бражки один шаг, и он будет совершён. Уже слышала комментарии рецептов: «Так, дрожжей, конечно, надо больше класть». Для разминки пиво из сухого кваса сварил. Хоть ложкой хлебай получилось. Желеобразное. Но в плане градусов вовсе не кисель — кривое.
Хорошо, врач (по тайной наводке Елены) лично познакомился с варевом и наложил вето на пивной порыв.
Печатная машинка не грозила ядовито сердцу, но ведь бред с напрасной тратой денег. Юлька растёт, хоть гири к рукам-ногам привязывай: в третьем классе, а уже метр пятьдесят шесть. Опять к зиме всё новое покупать…
— Юлька заодно научится, — приводил дед аргументы. — И почему, как нужно мне бумагу официальную сделать, должен на поклон идти? Чё, рук у меня нет?
Тяга к машинописи имела и подводный смысл — дед Петро лелеял под сердцем мечту о мемуарах.
Было что изобразить из боевого и мирного пути. Инфаркт подтолкнул к творчеству. «Приголубил, расстреляй меня комар!» — говорил ветеран. В госпитале понял: не вечный он, надо для истории семьи написать о своём житье-бытье. Елене сколько рассказывал, ничего толком не запало. Раньше, когда ещё в частном доме жили, зимой частенько электричество отключали, тогда всей семьёй усаживались у печки, и он начинал вспоминать войну, детство. А сейчас, что ни спросишь у дочери, плечами пожимает или отмахнётся: оно, дескать, надо, когда без того забот полон рот? Юлька и подавно не знает. Своим детям про деда что расскажет? Безногий был да повторял «расстреляй меня комар»? Нет, надо печатать.
Елену как-то спросил:
— Помнишь тётку Анисью?
— Как такую певунью забыть!
— А то, что в голодный тридцать третий, когда с Украины в Россию переезжали, мать её в чемодан положила?
— Зачем?
— Жрать нечего было, думала, может, задохнётся? Помнишь, я рассказывал?
— К чему эти кровавые ужасы?
Дед Петро не знал к чему.
— Но ведь это, расстреляй меня комар, наша семья! — злился.
— Да ну тебя.
И рассказы о дважды Герое Советского Союза Володьке Подгорбунском через пень колоду помнит дочь. А ведь поучительные рассказы, рядом с Володькой научился «пан или пропал» в критические минуты. В мирной жизни сколько раз по-Володькиному шёл напролом. Когда надо было, как на танк с гранатой, остановишь — живой, нет — гусеницами в лепёшку раздавит.
Командир корпусной разведки капитан Подгорбунский страха не знал. Раз на «виллисе» вчетвером на летучую разведку поехали. Речушка по карте. Они к ней выскакивают, а там рота немцев купанием освежается. С арийских телес русскую пыль смывают.
— Вперёд! — кричит шофёру Подгорбунский. — Дави автоматчиков!
Трое на берегу со «шмайссерами» загорали. Полетели разведчики прямо под огонь. А ведь не горохом стреляли по «виллису», не бумагой жёваной. Подгорбунский на ходу положил фашистов. Раньше купальщиков успели к их одежде, главное — к оружию. Немцы опешили — думали: наступление, за «виллисом» основные силы повалят. Пленили нахрапом роту. А куда её девать? Разведзадание требует за реку сгонять. Ну, не отпускать же фрицев. Сколько ещё наших пострелять могут. И тогда Подгорбунский даёт немецкому командиру пулемёт и говорит, немного знал их язык: расстреляешь подчинённых, будешь жить. И тот голых до одного положил!
— Дай, я его гада с этого же пулемёта! — Петро всего перевернуло.
— Стоять! Берём с собой, язык не помешает!
Потом лишь звёзды дважды Героя Советского Союза спасли Подгорбунского от трибунала. Петро тоже потаскали особисты: почему пленных расстреляли?
— А покажи мы немцам хвоста? — говорил, анализируя стычку с противником, командир разведчиков. — И задание бы провалили, и погоню получили. Видал, как тот по своим из пулемёта! Нас подавно за милую душу.
После войны, в сорок шестом, Петро сказал родным: «Нечего на Украине сидеть-высиживать, поехали в Омск, там у меня невеста». Сорвал семью с места. Отца, мать, сестёр. Ту же Анисью из чемодана. К тому времени она уже в сундук не помещалась — гарный подросток вышел. В Москве Петру и Анисье дают плацкарты, остальным — нет. Наплевать, что фронтовик на протезах. Сам поезжай, а родственники хоть по шпалам две тысячи километров. На вокзале убийственное столпотворение. Неделю посередине его сидят, вторую. С боем из Украины выбрались, а в Москве даже родственников нет. И ни вперёд за счастьем, ни назад к своим баранам вернуться. И так обидно стало. Сидит комендант вокзала, сволочь, его бы в сорок четвёртом на линию Принца Евгения. В ярость пришёл Петро и двинул штурмом. Прорвался в кабинет, размахивая палочкой, схватил коменданта за грудки, из-за стола вырвал, прибежал какой-то помощник, за руки хватает, Петро его отшвырнул к порогу.
— Убью! — дышит злобой в полковника. — Никакая охрана не поможет! Зарежу. Мне твоя жизнь — тьфу и растереть, а своей семье пропасть из-за тебя, борова, не дам!
Комендант решил — себе дороже с таким сумасшедшим связываться…
В сорок четвёртом прорывали линию укреплений Принца Евгения. Немцы окопались, не выкурить. На всём пространстве, где какие пути-дорожки, нарыли ям, бетонными колпаками накрылись и, как у Христа за пазухой, поливают оттуда из пулемётов русских солдатиков. Наши танки идут с пехотой на броне, ту косят и косят. Без пехоты какое наступление?
Разведка тоже участвовала в прорыве. Застряли у одного стреляющего колпака. Раз сунулись — открывай счёт потерям, два — увеличивай число павших… Ординарца Подгорбунского убили... Командир по рации кричит: «Вперёд!» А куда? Тогда Подгорбунский рассвирепел, вырвал у автоматчика сапёрную лопатку, спрыгнул с танка и напролом. Не совсем в лоб, чуть стороной обошёл колпак, ворвался внутрь и сапёрной лопаткой порубал пулемётчиков.
— Володька, ты сумасшедший! — говорил Петро. — Под пули полез!
— Нормальному похоронку домой бы отправили. Заодно с тобой.
В Омске в госпитале летом сорок пятого Петро организовал папиросную бригаду. Ходячий Вася Пацаев покупал на базаре комплектующие для производства, вдвоём с Петро набивали папиросы, мальчонку Стасика привлекли для реализации. Выгодно дело пошло. Петро — начальник бригады и казначей. Копил денежку для выхода из госпиталя.
Был ещё без протезов. А хочется после войны и надоевших госпиталей город посмотреть, людей гражданских. Среди раненых всякие умельцы. Деревянный ящик от вермишели приспособили под инвалидную коляску, поставили на колёсики из берёзового чурбачка напиленные. Не больно красивая, зато ездит. Из госпиталя так просто погулять не выберешься — врачи запрещают. Благо, не тюрьма, решёток на окнах нет. Дружки на простыне со второго этажа опустили коляску. Вторым заходом Петро доставили на землю. Из верхней одежды только кальсоны на нём. Да не на бал.
Катается воин по улице... Женщины в платьях красивые ходят, мужчины в мирных брюках. Лошадь подковами процокает, машина моторными звуками огласит пейзаж с домами и деревьями…
Вдруг к Петро пацан подбегает:
— Дяденька, вашего Стасика схватили, папиросы порвали! И дядю Васю скрутили руки назад.
— Кати меня туда! — командует разведчик.
Не успели разогнаться, навстречу двое ведут Васю под руки. Один в форме лейтенанта милиции, другой в гражданском, но крепыш будь здоров. У Петро после очередной операции швы ещё не сняли, да некогда о них печься. Прыгнул из ящика на здоровяка гражданского. «Прямо как чёрт из подворотни!» — смеялся над собой впоследствии. Повалил здоровяка и давай кулаком отделывать. Одной рукой за грудки держит, другой по всей физиономии молотит. Будешь знать, как увечных обижать! Вася в свою очередь с лейтенантом сцепился. Бой открылся посреди улицы. Народ за безногого болеет:
— Бей его, бей! Это начальник милиции!
Ничего себе кто под гражданским костюмом оказался! Да Петро наплевать. Камень схватил для усиления воспитательного эффекта. Вовремя санитары прибежали, забрали разведчика. Вася убежал.
В госпиталь милиция редко совалась. У отчаянных фронтовиков-инвалидов и оружие имелось. Если в тарасобульбовской Запорожской Сечи за убийство товарища убийцу заживо хоронили в одной могиле с жертвой преступления, то в госпитале за воровство одноногого могли отволтузить костылями так, что вторую ногу приходилось отнимать ради спасения остального туловища. Милиции Петро тоже бы не отдали. Врачи в таком случае покрывали: «У нас одни лежачие».
Многое мог дед Петро написать. Подгорбунскому планировал отвести отдельную главу. Год воевали бок о бок, запал в душу, как мало кто иной.
Всегда отличался Петро чётким почерком, после инфаркта каракули выходят, хоть плачь. Не было в пальцах уверенности авторучку держать. Издевательство, а не воспоминания получаются. На машинке как бы хорошо. Опять же прошение на новую автомашину губернатору напечатать. А то тянут и тянут. Он единственный в городе ветеран остался, кто сам за рулём сидит.
Месяца два обрабатывал Елену. Сдалась.
Соседка работала секретарём-машинисткой, помогла приобрести б/у электрическую. И учебник «Машинопись и делопроизводство» дала напрокат. В нём упражнения, рисунок клавиатуры, поделённой на зоны, где какой палец должен плодотворно давить, не мешая соседним. Дед Петро заставил Елену сектора клавиатуры разноцветной плёнкой разметить. Сделала дочь согласно книжке, а ученик дальтоник. Зелёное и красное — одним миром мазано. И клавиатура не светофор, в котором по счёту можно определять: стоп-свет горит или езжай по своим нуждам.
Слабости организма не остановили ветерана, засел вместе с ними за машинку. И никаких себе поблажек: если уж учиться — так не одним пальцем клопов давить, а на весь отпущенный природой потенциал — от мизинца до большого на обеих руках. Вон соседка: вроде чуть шевелит пальчиками, а печатает, как из пулемёта, и языком при этом чешет — не угонишься. На машинку вообще не глядит. Дед Петро так же хотел творить мемуары, чтобы чуть растопырил пальцы над клавиатурой — и пошла строчить губерния.
— Где столько слов наберёшь? — пыталась урезонить дочь.
— Да у меня воспоминаний в голове, — проговорился ветеран (про мечту о мемуарах молчал, как партизан), — на десять лет хватит.
Приспособил трёхногую табуретку под тумбу для печатного агрегата. С бортов укрепил листами фанеры. Слева приспособил пюпитр из жести — учебник с упражнениями ставить. Ладненько получилось. Но высоко.
— Обрежь ножки у табуретки! — Елена посоветовала.
— Вдруг промажу в сторону лишка.
Пока Елена отсутствовала, с помощью физики — рычага — и родственной поддержки — Юльки — подсунул под ножки дивана чурбачки. Одно плохо — забираться стало труднее. Это не ногастому: раз — и на месте назначения, однако приноровился к высотным трудностям, одолел. Но попробовал — опять неудобно. На этот раз машинка низко, нависаешь над ней с дивана, как нырять собрался. Дед Петро подумал-подумал и смастерил подставку под табуретку, оптимизировал уровень рабочего места.
После чего приступил к самообучению. Да так упорно, что не хуже Михайло Ломоносова. Денно и нощно стучал по буквам и знакам препинания, отрываясь лишь поспать и поесть. Сколько времени тратил на сон Ломоносов, не знаю, дед Петро чуть утром глаза продерёт, сразу тук-тук, тук-тук… Даже курил параллельно долбёжке. Новости по телевизору с руками над клавиатурой воспринимал.
Хорошо, своя комната.
Хорошо-то хорошо, да это не значит, что в других частях квартиры тишина. Замучил домашних не хуже, чем когда гармошку тиранил с учебной целью. Хуже! Там хоть от музыки звуки… Не всегда мелодичные, да всё не такие…
— Дед, — Юлька иронизировала, — ты как дятел на уборке урожая!
— А сама-то!
Это дед зря. Юлька двумя пальцами справлялась с упражнениями шустрее, чем он всей обоймой.
— С двумя пальцами кто тебя возьмёт на работу?
— А ты макаронины печатаешь!
Было такое. Дед поначалу клавишу пробела не признавал. И шлёпал сплошняком строчки от края листа до края.
— Опять «стиральную доску», — так окрестила отцовские художества Елена, — нафуговал!
— После научусь, — отмахивался курсант.
Потом пришлось переучиваться: рефлекс беспробельный не вышибешь засел в склерозной голове. Чуть забудется — полезла «макаронина»…
Наконец, дед Петро, кроме тренировочной с утра до вечера стукотни, начал подступаться к творческой части. Первым пунктом мемуаров поставил «Новый 1943 год».
Праздник вышел достойный пера машинки.
Калининский фронт. Петра только взяли в разведку дивизиона вместо убитого радиста. А там ребята подобрались… Эх, хватило бы слов описать. Естественный отбор, с гнильцой не держались. Разведчики то и дело ныряли в тыл к немцам проверять координаты целей. Чтобы «Катюшам» не пустоту перепахивать.
Тридцать первого декабря 1942 года в честь праздничка сделали удачный рейд. Вернулись. А снег валил, как в сказке довоенной. Идёт и идёт, идёт и идёт. Тогда как до передовой от этой сказки рукой подать. Но разведчики Новый год запланировали встретить не с автоматами в руках. Консервы американские на закуску имелись в заначке, шоколад трофейный — не только языков таскали от немцев.
Стрелка часов торопится к застолью, и вдруг отставить мечты о земных радостях. По рации приказ: разведчикам срочно проследовать в село с обидным для женщин названием Бабаеды, в штаб дивизиона. День предновогодний выдался такой, что часов двадцать на ногах, и вот отдых вместе с праздником по боку.
До Бабаедов десять километров. Дороги никакой. Откуда снегоуборочной технике взяться? Снег по пояс. Рыхлый, даже на лыжах тяжело. Хорошо, отец у Петра был лёгок на подъём. До войны, кроме родной Украины, где только не жил с семьёй. И под Читой на золотом прииске, и на Урале. Было где Петру освоить лыжную технику. На лыжне кацапам мог фору дать.
Затемно пришли в Бабаеды. Там ЧП. Часового от штаба украли. Штаб не дом с колоннами и флагом на крыше, походный — машина грузовая, фанерой крытая. В ней знамя дивизиона. И такой позор на голову гвардейцев-ракетчиков. Сверхсекретные части, строго-настрого никому — свой не свой, военный или гражданский, солдат или генерал других войск — ни слова нельзя рассказывать о специфике войск. И вообще: посторонним вход воспрещён в расположение части. На каждой «Катюше» специальная взрывчатка. В критический момент уничтожай, чтобы винтика врагу не досталось. А тут часового от штаба, как барана, украли. Только что стоял, только что ходил, а вот — исчез с концами. Получи, русский Иван, новогодний подарок от фрицев.
— Найти! — командир приказывает.
Когда шли в штаб, надеялись — ничего серьёзного. Думали обогреться снаружи и, по возможности, изнутри. Вместо праздника наглое воровство.
— Где хотите ищите! — командир грозным голосом, будто они немцев проворонили. — На то вы и разведчики!
Сам злее злого. Часового из-под носа умыкнули. Как ещё не «Катюшу»…
Немцы, конечно, не по воздуху за языком пожаловали. Значит, не могли не наследить. Разведчики принялись искать вход и выход охотников за живым товаром. Дали круг. Есть. Ракетчикам-миномётчикам лыжи ни к чему, только разведка пользовались деревянным средством передвижения. А тут посторонние. Трое вошли, тогда как на выходе плюс ещё один. На лыжи горемыку украденного поставили.
Уже хорошо — исходные данные есть, можно идти по следу.
А снег сыплет и сыплет. И Новый год приближается вместе с линией фронта. Миновали её по фрицевской лыжне и прямёхонько к трём землянкам на опушке редкого леса выкатили. Как всегда, у немцев чин-чинарём: огонёк льётся, по прочищенной дорожке часовой ходит.
— Петро, — приказывает командир, — снять часового!
Хорошенькое дельце. Петро на ключе работает любо-дорого посмотреть и послушать. Год на фронте, но ни одного немца грудь в грудь не убил. Ракетчики не пехота. Теорию, конечно, от спецов разведдела слышал… Да то теория… И вот «снять». Это не шапку с головы — раз и готово. Как?
Да не тот момент инструкцию запрашивать у командира. Надо действовать. Оружия у Петра сколько хочешь: автомат, гранаты, нож. Но шуметь нельзя.
— Есть, — шёпотом отвечает.
Что хорошо, снег сыроватый. До этого морозы под двадцать пять градусов донимали, тут потеплело. Снег не скрипит, не выдаёт тайный манёвр. Подбирается Петро к врагу, вопрос «как снимать?» без ответа сидит в голове.
Часовой хоть и немец, а не меньше украденного красноармейца лопух. Понуро ходит туда-сюда, что по сторонам делается, не смотрит. Под русский снежок о фатерлянде с фрау под ёлкой размечтался.
Петро подкрался к маршруту противника и, как только немец прошествовал мимо, тигром ему на спину…
Силушки Петру не занимать. Перед войной в колхозе хлеб с поля возил. Комбайн идёт, на нём под бункером стоит дивчина, зерно в мешок насыпается, она завязывает и сталкивает на поле, а сзади Петро на низкой подводе, хвать мешок одной рукой и на телегу, хвать и на телегу. Мешок такой, что двумя руками надо поднапрячься забросить, он одной на ходу. Комбайнёр не так себе — самый что ни на есть передовик-ударник. Работает и работает. Петро закидывает и закидывает. Только и отрада отдохнуть, когда комбайн сломается…
Прыгнул Петро на часового и за горло. Такой избрал вариант снятия. Немец икнул, обмяк. Мгновенно Петро обесточил врага. Но пальцы на горле сам разжать не смог. Ребята помогли. И быстренько забросали две землянки гранатами, в третью ворвались с ответным новогодним поздравлением.
Пока Петро подкрадывался к часовому, разведчики смекнули, какая землянка командирская. Та, что собой добротнее, вокруг которой снег чище убран. Субординация по всем немецким параметрам соблюдена. Тем и выдал себя немец. Заскакивают красноармейцы в землянку, там часовой-однополчанин со спущенными штанами к лавке привязан. Из него данные выбивают, несмотря на праздничную ночь.
Разведчики ножами разобрались с дознавателями. Часовому-растяпе со своей стороны добавили ремнём по тому же исполосованному месту:
— Это тебе за ротозейство!
А он плачет от радости:
— Спасибо, ребята!
Забрали документы и обратно в часть. По дороге Петро бросил взгляд на своего первого немца. Его засыпáло снегом...
Шестьдесят лет прошло, а стояла та новогодняя ночь перед глазами до минутки. Творческая интуиция сладко подсказывала: эх, хорошая глава мемуаров выйдет! Скорей бы научились пальцы бабочками порхать над клавиатурой.
Пока что, как червяки, ползали. Соседка-машинистка, не глядя в клавиатуру, вслепую печатает. Он, глядя, вслепую. Это в разведке в темноте без фонарика видел, сейчас при белом свете буквы сливаются. И реакция не та… Много факторов тормозило достижение намеченной мемуарной скорости. Тогда как Юлька по-прежнему играючи двумя пальцами обгоняла.
— У тебя мизинцы слабые, тренируй! — ругался дед.
Мечтая о доппрофессии для внучки, стал подумывать: неплохо бы диктовать ей воспоминания, раз такая шустрая. Но сам не сбавил обороты терзания машинки и домашних. И, смотря правде в глаза, надо сказать: долбился курсант не на одном месте. Успехи проклюнулись. Даже соседка-машинистка похвалила.
— А як же! — выпятил грудь самодеятельный печатник.
Кроме сухих упражнений учебника, стал вовсю мемуарные задания перед собой ставить.
В тот раз предавал бумаге эпизод гибели Подгорбунского. «Сколько ребят полегло в Польше на Сандомирском плацдарме! — бледно печатала машинка. А у курсанта комок в горле от появляющихся строк: — Чистое место, немцы простреливают каждый бугорок из всех орудий. Голову целой не поднять. Одна атака захлебнулась, другая… И вдруг Володька Подгорбунский вскакивает в «виллис». Кричу ему: “Товарищ капитан, куда?..”
«На что надеялся с такой наглостью? — думал потом всю жизнь Петро. — Зачем, голова горячая, полез?»
Печатник, захваченный воспоминаниями, в грохоте разрывов, вое мин, треске пулемётов дошёл до вопроса-крика «куда?». И не успел рассказать о том, как очередь скосила героя. В кульминационный мемуарный момент от долбёжки по клавишам учебник сорвался с пюпитра.
— Куда? — бросился ловить книжку курсант.
И толкнул локтем машинку. Сооружение, на коем она возвышалась — та самая табуретка на подставке, — опасно накренилось…
— Расстреляй меня комар! — закричал дед под грохот уже не в Польше…
Когда вбежала Елена, «расстреляй» состоялся по полной программе. На полу валялась электрически дымящаяся машинка…
Вызванный мастер осмотрел останки.
— Ремонтировать бесполезно, — поставил убийственный диагноз. — Дешевле подержанную портативную купить. Могу поспособствовать.
— Надо подумать, — сказал дед Петро.
— Чё думать? Чё думать? — ругалась Елена. — Хватит! Дай отдохнуть. Живём, как у молота с наковальней. День-деньской дырку в голове долбишь…
И как рада была, когда на следующий день отец, вернувшись от дружка, сказал:
— Нет, не будем портативную покупать!
— Правильно, — поддержала Елена. — На кой она!
После чего радость улетучилась.
— Надо компьютер брать. Солодовниковы купили. Небо и земля с машинкой. Вот на чём любо-дорого работать… Исправляй сколько влезет, не надо всякий раз долбить по новой и бумагу тратить. Обработал до последней закавыки, потом печатай. А буквы на экране по глазам, какой хошь величины, настраивай! И Юлька научится…
Шёл разведчику семьдесят восьмой год.
ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
Ветераны сошлись на встречу в гараже. Не было дежурных гвоздик, знамён и медной музыки духовых музыкантов. И воинов раз-два и никого больше — двое. Старшему, Петру Рыбасю, без пяти минут семьдесят девять со дня рождения, другому, Жене Сурину, без пяти минут двадцать один перевалило. Такая возрастная статистика. Но сидели на равных.
— Жека, ты же, расстреляй меня комар, не курил! Тебя в пример пацанве всю дорогу ставил.
— В Чечне после первого боевика начал, — затянулся сигаретой юный ветеран. — Сидим в палатке, завтракаем, как резанёт живот по туалетной надобности. Отбежал чуть от палатки, штаны не успел снять, араб выскакивает, как чёрт из бочки. Фанатик хренов. Потом в его карманах билет на самолёт «Тбилиси — Стамбул» нашли, шприц, наркотой заправленный, тысячу рублей, патроны такой же серии, как мои, не варёные — стреляющие, какая-то сволота продала… Меня не заметил. Орёт «Аллах акбар» и швыряет гранату в машину. Хорошо, пустая была. И разворачивается к палатке со второй гранатой. Я про туалет забыл, в грудь арабскую из автомата засадил. Наповал. После чего сел и закурил. А самого колотит. Ведь знаю — не человека, врага застрелил, а вот…
— Куришь, гляжу, в кулак огонёк прячешь.
— Не могу отвыкнуть.
— Я, считай, шестьдесят лет не могу.
Заглянула с контролем дочь деда Петра Елена. Всегда насмерть боролась с гаражными посиделками, но на встречу ветеранов не зашумела. Хотя мужики сидели не абы как, смазывали языки беседы сорокоградусной жидкостью.
— Вовремя приспичило, — сказал Женя, — так бы всех в клочья…
— Как-то раз ходили за языком. Немецкий офицер, не хуже тебя, из землянки выскочил по естественным нуждам, только присел-расслабился, я его хоп. Иди сюда. Так он, гад, всю дорогу, расстреляй меня комар, в штаны продолжал. Ребята смеются: Петро, не мог подождать, пока засранец опростается! А кого ждать? Там секунды решают. Но тащить вонялу мне пришлось. Зато потом командир похвалил. У немца не только в заднице, в голове тоже кое-что нашлось.
Ветераны закусывали варёной колбасой и малосольными огурцами.
— С кормёжкой как обстояло дело? — спросил дед Петро.
— Столько овсяной каши съел — стыдно лошадям в глаза глядеть! — заулыбался юный ветеран. — Изредка случался на нашей улице праздник — барана раздобудем. Раз доброго ребята притащили, привязали на хоздворе, а он не захотел в солдатский котёл. Сбежал. Мы напротив отряда Хаттаба стояли. Каких-то четыреста метров разделяли. Мы хватились, где баран? Да не до свеженины стало — над головой пули полетели. Нашего стрелка, Витю Солодухо, ранило. Командир роты на его место в БМП залез, из пушки садит. Мы под бронёй с автоматами. Вдруг наш баран из зелёнки выскакивает, глаза квадратные, мечется… Ошалел от грохота... Кореш мой, Лёнька Раков, прикладом по броне затарабанил: «Товарищ капитан, товарищ капитан, баран!» — «Какой, мать вашу, баран? — ротный изнутри орёт. — Как бы в прорыв не пошли! Это война, а не бирюльки!» Мы — долой войну! Начали вести огонь в сторону еды. Такое упитанное богатство боевикам отдавать. Завалили. Два смельчака под огнём поползли за ним. Когда перестрелка закончилось, ротный вылезает из БМП: «О, баран! Хорошо! — руки потирает. — Отрубите-ка мне две его задних ноги!» — «Ага, — обломали ему аппетит наполовину, — раз не разрешали стрелять в него: только одну дадим».
— Правильно, а то ишь — разогнался! — дед Петро заправил в мундштук сигарету. — А мы раз учудили! Были у нас один другого хлеще кадры: Митька Жиров (в деда-прадеда бандюга) и Борька Оборвись — с Митькой два сапога пара. В сорок четвёртом они к Рокоссовскому удрали. Тот всех жуликов подбирал! В сорок третьем, ещё перед Курской дугой, на Первое мая, выдали в честь праздника по двести граммов водки. Мы на Калининском фронте истощали вконец. Мясо получали бычками, тёлками. Сами пасли. Расчётами ходили зелень собирать: щавель, листья липы. Витамины, говорят. А нам бы мяса да хлеба вместо этих витаминов. Выпили свои наркомовские, Митька говорит: «Ещё хочешь?» — «Откуда?» — спрашиваю. «Сейчас принесу!» — и показывает на штабную машину крытую, что у дома стоит, в котором командир части живёт. Часовой охраняет. Замок. Пломба. И ведь принёс. Часовой, конечно, не строевой шаг вокруг печатает. И не как заведённый кругами бегает. Вот у дверцы кабины постоял, у капота тормознул. Митька шасть с другой стороны. Раз-раз: замок открыл, пломбу отогнул и внутрь. Пару бутылок водки и американскую резаную колбасу в баночках схватил, пломбу на место поставил. Шито-крыто. Во, рукодельник! А в тот раз Борька Оборвись подбил нас учудить.
И дед Петро начал рассказывать историю из боевого прошлого. Борис почему «Оборвись»? По документам он Васюков. Да пройда, каких свет не видывал. Развесёлый красавец, и язык минуты не помолчит. Как затишье на фронте, по снабжению его привлекали. Бычка в деревне получить, картошки для части привезти. Всё достанет и сверх того успеет. Любому в душу влезет, не мытьём, так катаньем уговорит. И провиант добывал, и зазнобы в каждом населённом пункте. Уедет из части, так с концами. Оборвись одно слово.
В сорок четвёртом на Украине разжился мешком трофейного сахара. В селе Лыповец сговорился с одноруким председателем колхоза: тот зарежет быка на благо Красной армии и получит официальную бумагу, куда девалась скотинка. Из немецкого сахара председатель по уговору должен сделать хохляцкую самогонку. Половину мешка берёт за работу, из второй сладкой части ставит бражку и гонит на благо отдельных представителей всё той же доблестной армии веселящий душу и дурманящий голову продукт. На него официальная бумага, само собой, не выдаётся. Тут полюбовное соглашение. Но если напиток получится хороший, вдобавок к сахару Борька Оборвись страшно дефицитной соли обещал отсыпать. Немцы её для гражданского населения не завозили, нашим тоже было не до неё. А без соли жизнь у местного населения совсем несладкая.
В миролюбивые планы вклинились боевые действия. Противник вытеснил Красную армию из Лыповец раньше, чем бражка вызрела. И быка только полтуши Борис Оборвись забрать успел, а как за второй собрался — немец в наступление двинул.
Борис ругался, обзывал немцев гадами, не хотел мириться с потерей.
И вдруг как-то вечером говорит:
— А поехали заберём! Поди, выгнал чёрт однорукий. И полбыка должен мне. Немчуре, что ли, оставлять?
— Ни хрена себе заявочки на длинной палочке! — удивился Митька Жиров и напомнил однополчанину географию боевых действий. — Там же линия фронта! Нарвёмся на окопы!
— Не будут они зимой копать! Проскочим по темноте. Я дорогу, как у себя под носом, знаю, сколько раз мотался, пока под нами село было.
Километров пять отделяло героев от передовой, столько же в тыл до самогонки.
— Ведь у тебя ещё сахар есть, — Митька пытался вразумить дружка, — отдай, здесь выгонят. Зачем башкой рисковать?
— Там готовая! А здесь сколько ждать? Айда! За машину ручаюсь!
Борька настырный. Почему, дескать, самогонку бойцов Красной армии немчура должна лакать?
Была у него «полуторка» с фанерной будкой.
— Если баллоны пробьют, — заверял, — на дисках доедем!
Шоферюга Борька, несмотря на баламутство, был что надо!
В сорок третьем на Курской дуге поехал Петро с ним в штаб, командир части вызвал. Борис Оборвись подвыпивший. Гонит машину, песни поёт. И тут сзади два «доджа три четверти». Явно не простые вояки едут. Дорога узкая щебёнкой отсыпана.
— Хренушки вам! — Борис на газ давит.
Решил не пропускать.
— Не дури! — Петро ругается. — Прижмись к обочине.
Да за грудки на скорости не схватишь.
У Бориса глаза горят, машину из стороны в сторону кидает. Сзади истошно сигналят.
«Доджу», конечно, обогнать «полуторку» раз плюнуть. Но только сунутся, Борька подставит машину. Лихач.
Наконец, один проскочил и поперёк дороги встал. Гонки окончены, выходи подводить финишные итоги.
У Петра под ложечкой ёкнуло: в «додже» не просто офицер — командующий армией Катуков. Петро знал его по Калининскому фронту.
Борьке хоть бы хны.
— Рулевое испортилось, товарищ гвардии генерал-лейтенант! — вытянулся в струнку, врёт не морщится. — Такое старьё!
И как начал тарахтеть, не остановить, что днями и ночами баранку крутит, ремонтироваться толком некогда… Запчастей нет…
На лобовом стекле «полуторки» гвардейский значок. Их миномётная часть «Катюш» со дня рожденья гвардейская.
— Гвардейцы называются! — свёл грозные брови генерал. — Доложите командиру части: вам двадцать суток ареста!
— Есть! — вытянулся в струнку Борис.
Ни капельки не смутился и не расстроился.
Он и не подумал докладывать.
И вот уговорил друзей, втроём рванули за самогонкой в тыл врага. Взяли десятка два гранат, автоматы. Стёкла на дверцах машины выставили. Ночью по-тихому, с выключенными фарами окольными путями проскочили линию фронта. Борис точно выехал к хате с самогонкой.
— А если там немцы? — Петро говорит.
Насовали в карманы гранат, постучались.
У хозяина глаза на лоб:
— Вы шо — село заняли?
— Успеется! — отложил Борис военную тему. — Сначала давай самогон и быка.
— А где взять?
Начал мямлить: мясо у родственницы «сховал», чтоб немцы не сожрали собственность Красной армии. А самогона «трошки» всего.
— Выпил, немецкий прихвостень?
— Та не.
Начал шариться по углам, банками греметь. Литра полтора наскрёб, в бутыль слил. Кусок мяса достал килограмма на три.
— Ладно, остальное потом отдашь! — Борис торопит. — Ещё как-нибудь заскочим!
Хоть и лихие ребята, а нервы жим-жим. Вдруг какой патруль за их машину, что у ворот, запнётся!
Похватали добычу и по своему следу обратно. У крайних окопов молодцы-удальцы по две гранаты бросили в расположение противника. Мало того, что увели из-под носа самогонку, ещё и панику захотели посеять в стане врага. Попугать наступлением. Немец не бросился наутёк, стрельбу открыл. Митька в кабине сидел, Петро — в будке. Дал оттуда длинную очередь в темноту.
Вдруг звяк, и в нос ударил запах сивухи.
В самое дорогое немец угодил! С ненавистью Петро разрядил рожок в сторону Берлина.
Машина в обратном от логова Гитлера направлении мчится, вдруг — дёрг, Петра швырнуло на борт. Баллон пробило. Но Борька, как и обещал, довёз друзей в целости и сохранности.
Ни царапины, один самогон пострадал.
— Надо было грудью защищать! — ругался Борис Оборвись. — А ты за бутылью отсиживался, разведчик хренов!
— Он, поди, — погрозил Митька кулаком, — от страха засадил из горла, а бутыль, заметая от нас следы, кокнул об борт!
— Нюхай! — дыхнул в своё оправдание Петро.
— Ладно, что нам горе горевать, когда надо воевать! — Борис подмигнул однополчанам и с плутовской физиономией растворился в темноте.
Минут через десять является с точно такой же бутылью, целой и полной.
— На кой под пули лезли? — заругался Митька.
— Зато развеялись! — хохотнул Борис Оборвись и разлил по кружкам…
— Везёт дуракам! — мотал головой дед Петро, рассказывая молодому ветерану фронтовой случай. — И самогонка не так нужна, как удаль показать. Я ведь не хотел ехать. Да побоялся трусом выставиться. Дурак был!
Старый ветеран закурил.
— Во сне воюешь? — спросил.
— Бывает, — заулыбался Женя. — Брат ругается: «Опять ваххабитов крошил?» Спим в одной комнате. «Прикрой! — ору. — Отходим!» Часто миномётный обстрел снится. Мина в меня летит, «фыр-фыр-фыр» свистит, падаю в окоп, с мамой, братьями прощаюсь, а она будто зависла надо мной...
— Я тоже, если выпью, воюю всю ночь!
В гараже стояла прохлада. За воротами горел июльский день. С жарким солнцем, высоким небом, знойным ветерком. Водка была тепловатой. Дед Петро уже не отваживался на классические сорок градусов, разбавлял их забористость минералкой. Женя плескал себе на донышко стакана чистый продукт.
— У нас парень из Иркутска был, — продолжил разговор юный ветеран, — Вещим Олегом прозвали. Чутьё собачье. Переедем с места на место, обязательно спрашиваем: Олег, землянку копать или в палатке перекантуемся? Нет, скажет, не возитесь, через два дня уйдём. Нам жалко уродоваться, на одну ночь в землю зарываться. Или скажет: а вот здесь копайте, стоять будем две недели. Никогда не ошибался. Из-под Грозного маршем двигались, машина Паши Шалдаева, механика-водителя, на фугас наскочила. Пашу выбросило. Вещий Олег рядом со мной шёл. И вдруг как заорёт, не могу понять к чему: «Говорил — не подметай!» Оказывается, перед отправкой Паша залез в кузов с веником. Олег увидел. «Паша, не подметай, — предупредил, — плохая примета». Паша веником отмахнулся: иди, не каркай. Олег как в воду глядел. Хорошо, Паша только руку сломал, и контузило чуток...
— А больше всего, — помолчав, добавил Женя, — политиканов, сволочей, ненавижу и журналюг. Раз наша колонна попала в засаду под Грозным. Пятнадцать ребят погибло. И Вещий Олег... Через пару часов по телевизору сообщают про этот бой: наши потери — двое убито и четверо ранено. Суки!.. Как-то сидим вечером, только разлили выпить, подлетает машина, оттуда выпрыгивает оператор — ни здрасьте, ни разрешения спросить — и ну снимать… У меня автомат под рукой. Над головой у него дал очередь… Тот плюхнулся на живот, пыль глотает: «Только камеру не трогайте!» Отобрали кассету…
Старый ветеран с превеликой осторожностью начал разбавлять очередную порцию водки. И недолить плохо, тем паче — переливом испортить продукт.
— Ни разу не ранило? — спросил, справившись с задачей.
— Везло. Вдвоём стоим. Вдруг очередь, он падает, я следом, чтоб думали — убит. Потом поднимаюсь, а товарищ — без движения…
— Всю войну считал — заговорён! — тяжело вздохнул дед Петро. — Глушило, засыпало землёй, но ничегошеньки серьёзного. Думал, отвоюю без царапины, а вышло — без ног. Судьба… Но главное, Жека, расстреляй меня комар, не война, а манёвры.
— Нинка не дождалась меня. О матери столько не думал, как о Нинке. Она в Германию на заработки уехала и за немца выскочила.
— Не рви сердце, Жека!
— А рви карман?
— Во-во! Нинки-картинки — товар приходяще-уходящий. А ты живой вернулся, Жека, живой! С руками и ногами. Остальное…
Дед Петро махнул рукой, дескать, остальное приложится. И по идеально точной траектории закруглил жест у стакана. Выпил. На закуску хлопнул себя по протезу:
Эх, милка моя!
Шевелилка моя!
Полюбила ты мене!
На постели у себе!
— Свои ордена в сорок шестом выкинул, перестали за них платить, сгрёб и выбросил…
— Я тоже медаль ни разу не надевал.
ГРИБЫ НА ЧЕТЫРЁХ КОСТЯХ
«Как день с утра не задастся, — вспоминал дед Петро войну, — так, расстреляй меня комар, до ночи наперекосяк... В то утро ложку посеял. Рассчитывал с ней Берлин брать, с Калининского фронта вместе, а тут обыскался — нет…»
А ещё, рассказывая про тот роковой день, говорил: «Наши враги — жадность и лень». Напирал на первую часть мудрости. По жизни Петро был мужиком рачительным, но на войне не жадничал, не гонялся за трофеями. Ни в Польше, ни в Германии. Помнил завет матери: «Чужое не тронь — руки отсохнут». Мужики таскали в сидорах костюмы, отрезы. Петро одни часы швейцарские имел. А тут смотрит — ботинки. И до того приглянулись деревенскому парню. Светло-коричневые, подошва в палец толщиной, с рантами. Не ботинки, а картинки…
Их Первая Гвардейская Краснознамённая танковая бригада шла на острие клина. «Эх, ребята были! — вспоминал дед Петро однополчан. — Цвет! Молодёжь необстрелянную не брали. С госпиталей многие. Дрались соответственно. Преград не было!..»
Три полка танков с автоматчиками на броне. Сзади дивизион «Катюш», дивизион противотанковой артиллерии, дивизион броневиков с крупнокалиберными пулеметами. Сила! Задача: прорвать фронт и сеять панику — круши! дави! сметай! — в тылах врага. Днём и ночью больше шума и огня для неразберихи в немецком стане.
Петро — что в мирной жизни швец и жнец, что на войне по любому хлебу, металлу и салу. Посади за руль машины — не растеряется, и разведчик опытный, и радист лучший в бригаде. С этой специальности начинал войну, рядом с радиостанцией закончил. Та, последняя, на крытом газике была установлена, который за танком комбрига неотвязно следовал для оперативной связи. Например, вдруг появилась загвоздка продвижению в виде вражеской артиллерии. Через Петро вызываются «Катюши», они — «огонь!», и путь свободен. Или въезжает колонна в лес. Сосны громадные, а на ветвях «кукушки», которые по нашим автоматчикам, что на броне танков, как давай поливать. «Броневики вперед!» — передаёт Петро приказ командира. Те выдвинулись и айда крупнокалиберными счетверёнными пулемётами по «кукующим» фрицам. Лес, как косой, вместе с «птичьими гнёздами» срезали и дальше…
«В сорок четвёртом, ещё в Польше, — рассказывал дед Петро, — нас начали готовить для взятия Германии. «Вы оккупационная армия!» — говорили. Офицеров, как жрать правильно, обучали. С деревень многие — вилок в глаза не видели, какие там салфетки и ножи за обедом. Гоняли, как платком рот вытирать, вилку держать и другим застольным выкрутасам. Почище, чем политзанятия. А установка на бой: можешь на танке ломануть не по дороге, а по дому — круши его, вали, дави, но после боя — пуговицу мирного населения не тронь».
Петро не удержался... В тот январский день сорок пятого они углубились в немецкий тыл на сто пятьдесят километров. Где-то под вечер в городок зашли. Остановилась колонна на пять минут, Петро забежал в дом ложкой разжиться, восполнить потерю. И увидел ботинки. Будто специально кто поставил на стул. «Взять?» — ударила мысль. «Не запнись за них, — сокрушался потом, — успел бы запрыгнуть в машину, а её всегда оберегали танки. Связь — глаза и уши командира». Но пока раздумывал да ощупывал приглянувшуюся обутку, загрохотали выстрелы. Петро выбежал из дома с ботинками, вскочил на подножку машины, а тут немецкая самоходка из боковой улицы…
А всё с ложки началось. За всю войну, кроме чирья на заднице на Калининском фронте, никаких ран, а тут…
Но жить-то надо…
И жил дед Петро полноценнее других ногастых. В молодости до девок горазд был. И они до него. В тридцать пять лет машину освоил. В пятьдесят полюбил грибы собирать. Конечно, со своими ногами и по девкам сподручнее шастать, и машину водить, и грибы собирать. В полный рост на протезах, какой ты грибник? А на четвереньках в самый раз. «На четырёх костях», — шутил дед Петро. И с азартом таким способом собирал грузди, белые и всякие разные.
Выглядел процесс следующим образом. Облазит дед лесок, к дереву подползёт, за ствол ухватится, встанет, перейдёт в соседний колок и опять принимает коленно-локтевую позу.
Со стороны кажется — мученья да и только. Однако дед Петро до дрожи любил за грибами ездить. Изнывал с первыми летними днями: когда, наконец, полезут родимые? И дочь терроризировал.
— Лен, не видела — грибы носят?
— Какие грибы, трава только проклюнулась.
— Ага, только! Дуром на грядках прёт! Пора сгонять на разведку.
Так повторялось каждый год. А уж в грибной разгар при первом удобном случае вырывался в соседние с дачей леса.
В тот день тоже достал дочь:
— Слетаем за профиль на разведку, а? Печёнкой с селезёнкой, расстреляй меня комар, чую — пошли родимые. Поехали, машина, как часы на Спасской башне, ходит.
— А чё вчера колесо отвалилось?
— Зато двигун не заглох.
— В первый раз за сезон.
— Так уж и в первый, — обиделся дед. — Не можешь без гадостей.
— Ладно, — согласилась Лена, она тоже любила грибную охоту, — своими глазами убедишься — рано ещё.
Потом дед вспоминал: тот день с утра не задался. И сетовал на себя — чё было дёргаться? Но задним умом мы все горазды.
Звоночек прозвенел утром, когда дед Петро в колодец ведро упустил. Бутылку пива надумал охладить. На край колодца ведро поставил. Оно кувырк… Бутылку каким-то чудом успел подхватить. А ведро полдня вылавливал.
Когда выловил, прихватив пятилетнюю Юльку, двинули на грибную разведку.
До заветных лесков было километров пять. Успешно, без отваливания колёс и замирания мотора, добрались до места назначения.
— В прошлом году в это время здесь полбагажника огребли! — охваченный азартом предстоящего мероприятия, вспомнил былые победы дед Петро и упал на «четыре кости». Принялся резво обшаривать рощицу. Со стороны казалось, дед обнюхивает каждое деревцо.
— Дед, ты как собака, — хихикнула Юлька.
— Зато я, в отличие от вас, ногастых, ни один грибок не пропущу. Вы ведь не собираете, а носитесь, как в задницу ужаленные. Рады, что есть на чём. Я каждый кустик обшарю, под всякую травинку загляну. У вас процентов пятьдесят мимо глаз попадает.
В тот памятный вечер, как ни обшаривал, как ни заглядывал, счёт трофеям шёл не багажниками, редкими экземплярами. Пять обабков, три подберёзовика, несколько сыроежек. По-Юлькиному — суравежки. Волнушки звала волмянками. Кстати, она белый гриб нашла. Ядрёный, в самом соку. Таких десятка полтора — и можно мариновать! Юлька, дитё есть дитё, нет бы, с ножкой сорвать, она — шляпку одну. Мама-Лена бросилась искать нижнюю часть красавца. Да где в стогу иголку найти. Юлька, конечно, забыла место.
Часа два дед ползал, Лена ходила, Юлька скакала по грибным угодьям.
— Стоп, пулемёт! — сказал дед Петро в один момент. — Хватит из пустого в порожнее переползать. Всё равно не зря съездили…
— Что, Юлька, — спрашивал внучку по дороге к машине, — поедим свеженинки? Мамка на ужин сварит грибной супчик-голубчик.
— А куда она денется, — внучка деда поддерживает.
— Ты любишь супчик с грибами?
— Ещё как есть хочу!
Дед Петро поторопился вперед событий распустить желудок на суп. У машины обнаружилось, что исчезла связка ключей, среди коих и ключ зажигания был.
— Вот гадский потрох! — выворачивал один карман за другим дед Петро. — Куда они, расстреляй меня комар, подевались?
— Дед, ключ надо на веревочку и на шею, — нравоучительно советовала Юлька.
— Ты ещё, соплюшка, будешь вякать!
— Сам ты соплюх!
— Лен, ты не брала?
— Они мне сдались! — нервничала дочь.
Мало хорошего видела Елена в этой потере.
— Неужели в лесу обронил?
По второму кругу начали обшаривать хоженые места, лесок за леском. Дед как Маугли, Лена тоже на колени встала. Ключи не грибы, в полный рост трудно в траве заметить. Юлька последовала примеру взрослых, но тут же ударилась коленкой о пенёк.
— Гадский потрох! — плаксиво заругалась.
— Юлька, по губам получишь!
— А деда чё не бьёшь?
Обнюхивая каждую травинку, дед Петро поднял ржавый перочинный ножичек.
— Пойдёт! — полюбовался находкой и сунул в карман.
Юлька нашла ножку от гриба-красавца и плоскую 250-граммовую бутылочку с завинчивающейся крышкой.
— Пойдёт! — сунул дед в карман сосуд.
— Всякую гадость собираете! — ворчала Лена. — Ключи ищите!
Когда солнце село, дед Петро, обхватив берёзу, встал:
— Всё, расстреляй меня комар, ни хрена не видать. Соединяю напрямую.
Повозившись с зажиганием, замкнул соответствующие проводки, застоявшийся «Запорожец» весело затарахтел, учуяв направление мыслей хозяина в сторону дома.
— Главное в нашем положении что? — спросил Юльку.
— Грибной супчик! — не задумалась внучка.
— Сама ты каша манная. Главное — ехать прямо. Иначе куковать на дороге придётся. Хочешь, Юлька, куковать?
— Ку-ку! Ку-ку! — сразу начала Юлька.
Не этот смысл имелся в виду, а тот, что дед при всей своей автолихости не мог закладывать крутые виражи. И не крутые — тоже. Зажигание-то обманул, без ключа завёл двигатель, но на этот сродни воровскому случаю имелась противоугонная блокировка: руль вправо, руль влево и «стоп пулемёт» — сливай воду.
— При повороте передние колёса стопорятся в одном положении, — объяснял дед пассажирам особенности данной поездки.
— И потом нельзя ехать? — спросила Елена.
— Как в цирке можно. По кругу.
— Всё бы ты шутил, папа!
— А чё, расстреляй меня комар, грусть-кручину разводить?
Беды большой в прямолинейном движении не было, дорога не делала резких поворотов. Единственная преграда — профиль, что в деревню вёл, за ним сразу дачи начинались. Дед Петро внимательно посмотрел в одну сторону профиля, в другую: нет ли движущегося транспорта? И начал заезжать на дорожное полотно.
— Всё, — с облегчением сказал, скатившись вниз, — дальше следуем прямо по линии партии и правительства.
Но вдруг на «линию» выскочил кабыздох. Куда уж он нёсся сломя голову? Может, от дачных псов уходил? Или нашкодил где-нибудь? Сунулся под самые колёса, которым было противопоказано криволинейное движение. Дед Петро инстинктивно крутнул руль в сторону от самоубийцы.
— Расстреляй меня комар! — кричал в следующий момент. — Лучше бы я тебя раздавил!
Колёса намертво заколодило.
Лена побежала за подмогой к соседям-автомобилистам.
Как ни бились мужики повлиять на блокировку в обратном направлении, в походных условиях ничего не получалось. Пришлось брать деда на буксир. А так как передвигаться он мог только по кругу, маршрут по дачным дорогам прокладывали в левостороннем направлении. То и дело приходилось останавливаться, заносить задок «Запорожца».
С добрый час цирковой крендель нарезали. Это при том, что при нормальном пути длина его была не больше полутора километров. Хорошо затемно достигли дачи…
— Лен, — на следующее утро дед Петро, едва продрав глаза, стал просить дочку, — свари грибного супчика.
— Берёзовой каши бы тебе! — проворчала дочка, ещё не отошедшая от вчерашней разведки.
— Чё?
— Я про себя.
Лена достала из багажника корзинку с грибами. Высыпала трофеи, едва прикрывавшие дно, на столик и… Среди грибов лежали ключи.
— Это Юлька, расстреляй меня комар! — взорвался дед, увидев пропажу. — Она, шкода такая!
— Из-за поганки полпосёлка взбаламутили! — поддержала мысль мама-Лена.
— Ремня всыпать, чтобы неповадно в следующий раз!
— Мороженое сегодня точно не получит!
Дед и мать в два голоса ругали Юльку.
Которая, конечно, не ангел. Но справедливости ради надо сказать: в тот раз Юлька к ключам не прикасалась.
РАЗВЕДЧИК И ПИОНЕРКА
— Колы був ще юнаком, — вспоминая неинвалидное время, дед Петро порой переходил на хохляцкую мову, — швыдкиш за меня не було. На ричцу с хлопцями идэмо, хтось каже: «Хто быстрийше добижить?» — Я як ушпарю, тильки пятки блыщут. В ричцы вже купаюсь, а воны тики повзут. Та… Свинья в огород вскоче, маты мэнэ кличэ, бо одын я можу зразу впийматы. От такий я був дюже швыдкий хлопец!
Про военные беговые подвиги хвастал на мове москалей. И так смачно, аж в протезах сладко ныло:
— От раз нёсся! Летел, как тот чемпион! Под утро мы языка приволокли и спать попадали. Вдруг кипеш! Немцы! В прорыв, расстреляй меня комар, на нашем участке ломанулись. Чё уж там наше командование прошляпило. Мы их языками завалили, они не в курсе дела. Фрицы валом попёрли — отбиваться дохлый номер. Хватай ноги в руки и дуй в сторону родины. Что я и сделал. Догоняю Гришку Лебедева, он на велике чешет, спицы сверкают. Возьми, прошусь, на багажник. Он морду колодкой. Не, говорит, вдвоём медленно, оба пропадём. Сильнее педалями от меня закрутил. Забыл, стервец, как его, раненного, из-за линии фронта на себе волок. Бегу, а немцы сзади из пулемётов подгоняют. Гришка, хоть и на колёсах, недалеко оторвался. А тут и вовсе бросил транспорт. Финиш пришёл. Река широченная. А Гришка только по-топорному плавает. Капец настаёт. Взмолился: «Петро, не бросай!» — «Ага, — говорю, — ты меня на велик взял?» — «Прости!» — просит. Помог, конечно. Плавал я как рыба в воде. А уж бегал, когда ногастый был…
— По девочкам? — подзуживали мужички.
— Не, по ним с ногами не успел — война.
— Зато с протезами давал.
Это уж точно. Не промах был Петро.
А ведь жить не хотел, как ноги отняли. Да и отнимать нечего было. Правая на одной шкурке держалась, от левой мало что осталось.
«Лучше бы насмерть, — отворачивался в госпитале к стене, — чем обрубком быть!»
Пионеры у его кровати пост организовали по отвлечению от самоубийственных дум.
Книжки читали, стихи…
Кстати, с одной пионеркой столкнулся через сорок три года по шуры-мурному вопросу. Без красного галстука она к тому времени ходила, что не помешало бурному роману.
Петро в госпитале, был такой момент, поставил на себе крест. Куда, мол, без важнейших составляющих двигательного аппарата годен? Одну пионерку, что развлекать бойца приходила, попросил верёвочку покрепче принести. Девчоночка и рада стараться, как же — солдатик израненный обратился. Хорошо, нянечка узрела ночью сооружение петли-удавки…
— Ну, дай тогда яду! — швырнул Петро верёвку в глазастую. — Кому я такой нужен? Кому?!
— Мне, — сказала нянечка.
Настей её звали. Дивчина молодая, видная.
— На кой тебе инвалид?
— Петя, — ответила с жаром, — посмотрись в зеркало! Ты даже здесь, после тяжелого ранения, какой красивый!
Петро на самом деле был видный хлопец. Цыганистый, волосы волнистые, глаза карие. И не какой-то заморыш. Немца, намеченного в языки, без всяких прикладов кулаком по голове с одного удара глушил. Бац, и готов любезный для транспортировки. Можно без кляпа тащить. Не скоро очухается.
Нянечка исключительно в лечебных целях сказала «мне нужен». Надо как-то от петли отвлекать безногого солдата. Чувств к нему не испытывала.
— Точно я тебе нравлюсь? — Петро ушам своим не верит.
— А как же! Да на тебя тут все девчонки заглядываются! — продолжила психотерапию Настасья.
После чего разведчик перестал у пионерок верёвку просить.
Как выписался из госпиталя, дали ему провожатого, и поехал к родным на Украину. Но через пять месяцев вернулся жениться на Настасье. Той и деваться некуда. Говорила? Говорила. Обещала? Обещала. Значит, девка, не крути носом.
Сошлись, а через полгода Петро обратно засобирался на Украину. Вошёл во вкус жениться. Дома у него тоже зазноба появилась. Побыл мужем сибирячки, захотелось к хохлушке.
Что, дескать, зря мы кровь проливали, ноги теряли? Имеем право на личное счастье.
Поел вареников да галушек, кавунов солёных да сала, и страх как захотелось пельменей и щей Настасьиных. И опять «что мы, зря кровь проливали?»
Пару раз сгонял туда-обратно через полстраны. Потом думает, зачем я, чудак такой, мотаюсь? Можно на месте галушки с варениками найти. В Омске тоже хохлушек хватает.
Никогда не мешало Петру отсутствие ног — ни в любвеобильные молодые годы, ни в более умеренные.
На День Победы выступал однажды в парке, о боевом пути браво рассказывал. Спустился со сцены, а к нему женщина:
— Вы меня не помните?
— Нет, расстреляй меня комар!
— Тоня я! Помните, в госпиталь верёвку вам приносила. Стихи читала!
— «На севере диком стоит одиноко…»
— Ну!
— Надо отметить встречу боевых друзей.
Стали они отмечать.
Раз, да другой, да третий разведчик к пионерке заруливает. Ей пятьдесят пять лет, деду — на одиннадцать больше, но любви все возрасты по плечу. Кто-то, может, осудит: «Им о душе пора думать, они сосредоточили внимание на низменных страстях организма». Дескать, внуки у каждого за спиной, они любовь развели как ни в чём не бывало. Седые оба, а туда же — объятья подавай.
Что на это скажешь?
Дед Петро ничего не говорил. И не задумывался. Не сдерживал даже тот щекотливый факт, что пионерка жила в одном доме с племянницей жены Настасьи. Самоуверенно считал: он-то, старый разведчик, имеющий добрую сотню ходок в тыл врага, за линию семейного фронта тоже незаметно будет гонять.
Родственники не фашисты, быстро доложили Настасье о вылазках в запретную зону.
«Ах ты, старый кобелина! — сказала жена. — Ах ты, чучело! Всё ему по бабам прыг-скок. Подхватишь СПИД, и руки отнимут. Я тебя по больницам таскать не буду. И так от стыда сгореть можно: старый хрыч на тайные свиданки бегает!»
Ничего принципиально нового в этом монологе не было. Кроме одной детали — вслух не произносился. Настасья виду не подала, что располагает достоверной информацией о подлой измене. Вела себя, будто знать не знала и ведать не ведала. Внешне. Внутренне разработала план коварнейшей антипионерской операции.
Однажды, как бы невзначай («невзначай» ловила несколько дней), столкнулась с пионеркой.
— Неужто Тоня? — сделала удивлённое лицо.
— Да, — непонимающе сказала пионерка.
— А я — Настя. Ну, госпиталь помнишь? Томилина Настя, а теперь Рыбась.
«Сейчас вцепится в волосы», — испугалась скандала пионерка. Сжалась обречённо. А потом видит, Настя ничегошеньки о романе почти боевых товарищей не знает. Щебечет себе беззаботно на всякие темы.
«Пронесло», — подумала пионерка и невинным тоном спрашивает:
— Как там Петро, разведчик наш? Раз в парке на День Победы видела его, выступал с трибуны.
— А чё ему сделается? Бегает, воюет. Правда, в последнее время заскоки начались с крышей, — покрутила Настя пальцем у виска. — Чудит.
«Неужто меня имеет в виду?» — опять ухнуло сердце у пионерки.
— Как-то прихожу домой, он на кухне сидит, на полу ворох бумаги, скалка, ложки деревянные, разделочная доска, в руках спички. «Замёрз, — говорит. — Только что реку вброд со взводом переходили, заколел». И чиркает спичкой. Еле отобрала. На следующий день топор схватил и давай табуретки крушить. «Богомать, — кричит, — я кровь проливал!» И раньше во сне всю дорогу воевал. А тут наяву начал.
У пионерки чуть не сорвалось: «Знаю!» Вовремя бабский язык прикусила, не ляпнула: «Сама не раз слышала, как во сне воюет». Дед Петро, бывало, у неё, подвыпивши, заснёт и начинает орать: «Огнём прикрой!.. Куда ты?! Мины там!»
— Раньше только во сне воевал, — продолжает Настасья, — в последние годы наяву начал. На меня с ножом кидается. «Ты, — кричит, — немецкий оккупант!» Это я-то! Хорошо — протезы, не может догнать. Так бы давно порешил. Топоры, ножи прячу… Даёт о себе знать война. Два раза в психушке лежал. Подлечится, вроде ничего, пройдёт. Через полгода опять квартира во вражеский тыл превращается. Нас, как языков, скручивать начинает. Подкрадывается. Или за дверью спрячется, чтоб, значит, оглоушить неожиданно. Затмение ни с того ни сего найдёт, особенно когда выпьет. Фронт даром не проходит. Шутка ли, почти четыре года отломать на передовой. Как-то прилегла на диван, задремала, и вдруг — будто холодом обдало. Открываю глаза, он с ножом крадётся. Ещё бы секунда... Еле успела подушкой защититься. Только пух полетел. А так бы полоснул по горлу и капец!
Пионерка вспомнила: у Петро в кармане всегда складничок острейший. Хвастал: «Как бритва, по спецзаказу цеховские ребята делали». Вспомнила и побледнела.
— Что с тобой? — спросила Настасья.
— Ничего-ничего.
Поговорили они, через два дня дед Петро прирулил к сударушке с поллитровкой в кармане, переполненный любовью: «Видчиняй, родная, хату, будем песенки играть».
Родная не «видчиняет». То есть, на порог пустила, а дальше не моги.
— Я, — говорит пионерка, — больная! И больше ко мне не ходи!
— Ты чё? — оторопел разведчик. — Сказилась? Сама приглашала «заходи чаще, всегда рада».
— Дочь моя узнала, ругается!
— Хорошее дело, я горилку взял.
Даже на этот крепкий довод «не видчиняет» пионерка дальше порога.
«Вот жинки поганый народ, — возвращался дед Петро с неудачного свидания. — То лучше меня не было у неё за всю жизнь мужика, а теперь дочку слухает. Вот поганый народ…»
САЙГАК НА КОЛЁСАХ
Елена, дочь деда Петра Рыбася, и сын его Борис пребывали в сильной тревоге. Отец, ветеран Великой Отечественной войны и инвалид её сражений, подал губернатору прошение о выделении автомобиля.
Тревога была не в том, что откажут заслуженному воину. Как раз на сто восемьдесят градусов наоборот. Вдруг удовлетворят просьбу. Странный народ, скажет не знающий деда Петра гражданин, им на льготных условиях машину могут отвалить, они фордыбачатся.
Знакомые ветерана горячо понимают его детей, душа которых всего один годик и была на спокойном месте, пока грудой железа стоял в гараже «Запорожец» деда Петра, двадцать лет назад подаренный советской властью.
В военном прошлом ветеран оторви да брось какой был отчаянный разведчик. Таким в душе и остался по сию пору. А в теле уже семьдесят пять лет.
Дальтоник — это самый безобидный изъян автолюбителя деда Петра. Огни светофора можно по счёту определять. Вверху — красный, внизу — зелёный, посредине — жёлтый. Так дед цвета и различает. Куриная слепота, когда в темноте дед Петро дальше своего носа ни бельмеса не видит, — тоже терпимый недостаток. Ночью за языками уже не ездить. На дачу и за грибами днём гоняет. Хуже, что реакция у бывшего разведчика ниже некуда. На поворотах, как плохой велосипедист, действует. Дугу такого радиуса закладывает, что обязательно встречную полосу прихватит.
И ни тени волнений. Ему — что раньше в тыл врага сбегать, что сейчас против шерсти на шоссе проехаться. Запросто. А ведь не советские времена. Джипов и «Мерседесов» на дороге, как насекомых у иного бомжа. Воткнись в такой — квартирой не рассчитаешься… Но деду разве докажешь, что новым русским, у которых в голове одна извилина, и та в виде доллара, до фонаря его раны, ордена и протезы вместо ног.
Так как ног у деда Петра нет, отсюда — управление ручное.
Дочь Елена без «Отче наш» ездить с отцом не может. Сидит, крепко привязавшись ремнём, и без конца повторяет: «Отче наш, иже еси на небесех…»
Жизнь «Запорожца» деда Петра была полна ярких событий: кузов каждым погнутым миллиметром — других не имелось — помнил кюветы, столбы, перевороты, потери колёс... Попав в руки деда, «Запорожец» с радостью воспринял разудалый характер хозяина. Автомобиль и сам был натурой неуёмной. Получилось: два сапога — пара. Не вспомнить дня, чтобы машина была полностью исправна. Отказывали тормоза, рвался в дороге ремень вентилятора, садился аккумулятор в неподходящий момент…
В нашем рассказе претензий к аккумулятору, ремню и двигателю не было. В нашем рассказе сцепление не сцепляло. Дед Петро, надумав поехать с дачи домой, передвигался скачками. После каждого торможения сайгаком срывался с места в карьер, и ниже шестидесяти километров в час не получалось. Выше тоже. Но скоростей «Формулы-1» и не требовалось.
На удивление, тормоза держали. Иначе — кто его знает, до чего допрыгался бы.
Оно и так в тот день вышло, хуже не бывает.
Прискакал дед Петро домой. Да не в условленный час. Должен был, по оговоренным с дочерью планам, через день прибыть, но ему заегозило раньше. Про внезапно открывшееся недержание Елена, конечно, не знала.
Когда на дачу приехала и соседи доложили: дед Петро отбыл, — сердце заныло в недобром предчувствии. Чего хорошего ждать, если собственными руками погреб на просушку открыла, стальную крышку люка в три миллиметра толщиной перпендикулярно проезжей части гаража ломом застопорила.
Побежала на электричку. Только догнать по рельсам «Запорожец» не удалось.
Дед с дачи благополучно прискакал — плюс к сцеплению ничего в дороге не отказало — дверь гаража открыл. С его куриной слепотой разве мог что-то в сумраке помещения узреть? Собственно, и не смотрел. Что в родном гараже разглядывать? И так всё с закрытыми глазами знает. Поэтому уверенно сел в машину, отпустил тормоза и прыжком влетел в гараж. Помеху так и не увидел. После удара крышка багажника (как известно, он у «Запорожца» шиворот-навыворот, спереди находится) подскочила вверх. У крышки без того был неправильный «прикус» — итог столкновения с забором дачи, тут совсем перекорёжило.
Дед Петро понял: его в гараже не ждали, и оперативно дал задний ход. Выпрыгнул за ворота.
Как в кино — ни раньше, ни позже, сын Борис мимо на машине спешил. По этой дороге он вообще никогда не ездил. Раз в год, если и занесёт... А тут…
Елена потом втихушку радовалась, что Борис был.
Дед, как инвалид войны, гараж в хорошем месте отвоевал. Впритык к напряжённой трассе. Удобно, не надо по закоулкам крутиться, и всегда чисто. А недавно поблизости бар со стриптизом открыли. Дед Петро уже девками, показывающими под музыку сахарные места, не интересовался, а вот иномарки под вечер на сладкое летели мимо гаража…
Если бы такой иностранной красавице в бочину дед врубился…
Бог миловал. Родному сыну в борт врезался. Тот накануне закончил предпродажную подготовку своих «Жигулей», торопился к покупателю в предвкушении денег, а тут родной папаня, как с цепи сорвавшись…
И опять повезло, долбанувшись в авто сына и вылетев от удара на середину проезжей части, наскочил не на «Вольво», не на «Мерседес» или КамАЗ — на ветхую бабульку, что шкандыбала через дорогу, опираясь на лыжную палку. Еле волочилась, припадая на все больные ноги…
И вдруг на неё жуть летит. «Запорожец» на конвейере красавцем не назовёшь, тут вдобавок перекорёженная крышка багажника, как челюсть акулы, распахнута. Зада вообще нет. Он в салон переместился после встречи с «Жигулями». Бабку по идее должен был кондрашка обнять от такой напасти.
Да не из тех была, у кого жизнь мёдом текла. Закалилась в невзгодах и лишениях. Такой прыжок сделала с двух ног и палки, используемой как спортивный шест, что любо-дорого поглядеть. Дед Петро не смог полюбоваться — крышка багажника, пастью хищника распахнутая, обзор перекрывала. Поэтому, крутнув руль, сам того не желая, опять в сторону бабки направил зверюгу на колёсах.
По всем показателям прежней жизни «Запорожцу» после двойного удара — физиономией о крышку, задом о «Жигуль» — следовало заглохнуть на веки вечные. Он вразнос пошёл. Двигатель, форсажно ревя, не выключался, как ни старался укротить его дед Петро. И тормоза отказали. «Запорожец» кровожадным хищником прыгал по дороге, норовя подмять под себя резвую старушенцию. Та скакала, как на горячей сковородке. Инвалидные ноги вытворяли чудеса спорта, уходя от четырехколёсной опасности. Лет десять, не меньше, кроме шарканья при ходьбе, ничего прытче не могли, а тут бабуля козой летала во все боковые стороны и вперёд-назад.
— Хохол треклятый! — клеймила в прыжках преследователя.
Обидное прозвище могло относиться и к деду Петро, и к «Запорожцу». Дед из-за рёва не услышал обидные слова, автомобиль оскорбился. С ещё большей настойчивостью стал гонять бабку, не давая отдышаться и наложить на себя спасительное крестное знамение.
Дед Петро бросил руль, всё равно дорогу не видел — обзор был наглухо закрыт, принялся шарить под приборной доской в надежде разорвать цепь зажигания, дабы укротить сбесившегося мерина.
— Насильник! — верещала бабуля. — Поганец!
Наконец, к автомобилю подбежал Борис, засунул руку в перекорёженное чрево и выдернул пучок проводов.
«Запорожец» испустил дух в миллиметре от бабули.
Дед тоже был спасён. Из-за поворота вылетели иномарки, спешащие поглазеть на девок, снимающих исподнее на сцене бара.
Продолжай «Запорожец» скакать неуправляемым сайгаком, иномарки навряд ли невредимыми добрались до голобабского действа. Но деду повезло…
Старушенция не весь порох сожгла в прыжках, сделала ещё один — на этот раз не от машины, а наоборот. И со всего маху титановой палкой по лобовому стеклу саданула. Водитель инстинктивно закрыл глаза, а когда открыл, то лучше бы сидел зажмурившись. По стеклу рясно змеились трещины. За секунду до этого дед Петро с удовлетворением подвёл итог передряги: «Зато лобовое целое…»
…Добрых полгода надоедал дочери:
— Борис, расстреляй меня комар, обиделся, что ли? Не звонит. Когда он думает машину мне ладить?
Но Борис поклялся ни за что ремонт «Запорожцу» не делать.
И вот теперь родственники с ужасом ждут решения губернатора — возьмёт да облагодетельствует деда Петра новым автомобилем.
ПОДСОЛНУШКИ
Петро Рыбась познакомился с Иваном Сошниковым в госпитале. У Ивана отростки вредные появились на позвоночнике. С таким дополнением врачи запретили мягко спать. На щите из досок назначили. Маялся, конечно, бедолага на деревянной перине. Стелет сверху простынку и посмеивается: «Как бы горошина не попалась, а то буду до утра крутиться!» Не унывал. И рыжий, аж глазам больно. Без ноги. В палате завёл порядок — на ужин обязательно бутылочку. И первый коронный тост:
— Дай Бог здоровья выпить! Тогда будет здоровье заработать! А не будет здоровья выпить, хрен заработаешь! Не только на рюмку, но и на хлеб!
Примут по соточке бойцы, всенепременно воспоминаниям предадутся.
— В сорок четвёртом в бандеровских краях, — рассказывал Иван, — ротный вызывает: срочно доставить секретный пакет. Выбирай, говорит, напарника любого звания и вперёд. Чтобы к утру пакет был в штабе. Я Вадика Звонарёва, земляка из Тюмени, взял. Погода сволочная стояла. Распутица, грязища. Сапоги просыхать не успевали. Время к ночи. Небо затянуто, месяц на минутку зыркнет из-за туч, и опять темнота. Вышли за село. Дорога раздваивается. По карте определились: одна совпадает с нашим азимутом. Всё легче грязь месить. Идём. Вдруг Вадик хвать меня за руку и тянет вниз. Ложись, дескать. Я и сам вижу — впереди стоит кто-то. А там ведь не только немцев надо бояться. От любого местного пули жди. Вадик Звонарёв через неделю так и погиб. Нам сторого-настрого запрещали в одиночку перемещаться. Они без сопровождения поехали, в глухом месте машину обстреляли. И Вадика наповал.
— Да уж, — подтвердил Петро, тоже воевавший в тех краях. — Поганый народ. Везде местное население помогало. Этих, бывало, не допросишься. Надо, скажем, переправу делать, никто не выйдет по-доброму. Один прикидывается валенком — по-русски ни бельмеса, другой заболел резко. Накануне бревно аж бегом тащил, тут умирать собрался. Нам уговоры воспитательные разводить некогда. Одного, второго к стенке, остальные сразу по-русски начинают разуметь и скоренько выздоравливают.
— И видим, посреди поля стоит кто-то, — продолжил рассказ Иван. — Понятное дело, в голове самое худшее мыслится: бандеровцы! засада! Один в дозоре стоит, остальные залегли. От своих мы далеко отошли. Надеяться на помощь бесполезно. И сколько их там против нас двоих? Хорошо, если не засекли, а если глазастые оказались? Упали мы в эту мокрень. Ждём развития ситуации. Автоматы наготове, гранаты под рукой. Постоим за себя. А сыро, холодно. Да терпи, ежели голова дорога. Но и в грязи валяться удовольствие ниже среднего. Десять минут лежим, двадцать. Холод пробирает, а этот торчит, не шевелится. Что за хреновина? Ну, говорю, Звонарь, хватит вылёживаться, вперёд! Сам держу этого стояка под прицелом. Вадик пополз, потом свистит: иди сюда. Вот чего не ждал, не думал. Ну, ствол сухого дерева, если не бандеровец, ну столбик. Оказалось — святой из дерева. Матюгнулись, в грязи из-за него валялись, мёрзли. Через десять минут Вадик, у которого глаза как у филина, опять за руку хватает. Снова впереди кто-то. Сидит теперь. Что ты будешь делать! Подождали для порядка, не шевелится, подошли. Та же дурота. И как начали попадаться эти истуканы. Поля у западенцев индивидуальные, каждый на своём участке святых ставит. Кто в вертикальном положении, кто сидя. Ох уж поматерились мы!
Иван с Петром сдружились в госпитале. Оба пошутить горазды, про жизнь рассказать у каждого есть что. Петро как раз пчёлами занимался, его астма начала душить, но организм, на сотни рядов лекарствами перекормленный, забастовал принимать аптечную химию, врачи мёдом посоветовали лечиться. Петро ульи завёл и давай читать всё подряд про этих трудяг с жалом, заодно начал знакомства заводить в пчеловодческих кругах. Где его вскоре окрестили «профессором», до того теорию изучил, на практике её применяя. Иван тоже раздумывал завести несколько уликов. Расспрашивал, что и как. Раз Петро в разговоре пожаловался, что полетели колёса от инвалидки.
— Приезжай ко мне, — Иван зовёт, — от сеялки снимем. В самый раз.
Через месяц Петро приехал к Ивану в Милорадовку.
— Сейчас гастроли сделаем! — подмигнул Иван. И сказал жене, что они на хоздвор за колёсами.
Однако направление, выйдя за порог, скомандовал другое — в соседнюю деревню. Там гостеприимная хозяйка, закуска, бутылка…
— Дай Бог здоровья выпить! — поднимает Иван рюмку. — Тогда будет здоровье заработать! А не будет здоровья выпить, хрен заработаешь! Не только на рюмку, но и на хлеб!
Выпили, парнишка лет восьми заходит. Рыжий, что волосы, что лицо.
Иван ему конфетку из кармана достаёт.
Погуляли мужики, дальше махнули. Снова мимо хоздвора.
— Когда колёсами займёмся? — Петро беспокоится.
— Не боись, никуда не денутся. Инвалидок у нас нет, кроме тебя, никому не нужны.
В другой деревне опять застолье, и они желанные гости.
— Мой друг полковник! — для большей солидности Иван представляет хозяйке гостя.
И снова в доме парнишка рыжий и девчонка такой же масти. Их тоже конфетками одарил Иван.
В третьей, четвёртой деревне аналогично тёплый приём и дети аналогичной масти. Тоже по конфетке получили.
— Слушай, — Петро удивляется, — у вас что — вода особенная? Все как подсолнухи.
— Ага! — хохочет Иван. — Рыже-минеральная!
В сорок четвёртом под Львовом Иван во время артобстрела отвоевался подчистую. Как сам говорил: «Вернулся домой в урезанном виде». На протезе. Что делать? В двадцать два года на стариковскую должность сельпо сторожить? Не захотел. А куда? Поставили молоко собирать. Дали лошадь, географию из четырёх деревень. Объезжай, фляги забирай, на молокозавод доставляй. Разом три должности положили: экспедитор, водитель, грузчик. На фронте мечтал шофёрство освоить, и вот тебе руль в виде вожжей верёвочных.
После войны мужиков в деревнях нет. Одни деды ветхие да ребятишки.
— Вань, — обратится какая-нибудь молодка, — ты бы заскочил по пути, посмотрел: дверь не закрывается! И ножом тесала, и молотком била…
— Ладно, — скажет Иван, — завтра погляжу, сегодня боюсь, кабы молоко не скисло!
В другой деревне тоже бабы без мужиков бедствуют. У той крыша прохудилась, у этой печь дымит.
У Ивана трудовой день не такой уж напряжённый, есть возможность выкроить время, подсобить землячкам.
Заборы поправляет, гвозди забивает, стёкла вставляет, крыши чинит. Женщины, конечно, рады-радёшеньки отблагодарить. Закончит дело, глядь — четвертинка на столе, яишенка…
Лошадь выделили фронтовику понятливую. Если в своей деревне кучер про неё забудет — сама дорогу в конюшню к конюху найдёт. В чужой деревне и в оглоблях переночует.
Хуже фронтовику с женой. Та, в отличие от тягловой скотины, ругалась в недоезжающих до дома случаях.
Затарахтит, как автомат на фронте:
— Тра-та-та-та-та-та!
Аж голова заболит у Ивана.
— Колесо у меня сломалось.
— А оглобля не сломалась? Через день да каждый день «колесо» у него...
Проходит год, второй… Ездит Иван по отведённому разнарядкой маршруту, добавляет в молочные реки страны свой ручеёк. Вдруг, глядь, дыбает по улице рыжий подсолнушек. В другой деревне тоже сидит на завалинке подобное по расцветке создание... И в третьей с четвёртой вместе цветут яркой масти детки…
Стал возить полные карманы конфет.
— Как зовут?
— Наденька.
— На, родненькая.
— Как зовут?
— Саша.
— На, дорогой!
Женщины требовательнее стали:
— Крыльцо поправь! Поросёнка заколи! Огород вспаши!
И жена автоматными очередями тарахтеть перестала. Махнула рукой.
Умер Иван рано. Ещё пятидесяти не было. Лёг в Омске в госпиталь, позвонил Петру на работу, дескать, заходи, друг сердечный. Через два дня Петро пришёл, а уже к холодным ногам. Поехал в Милорадовку хоронить.
Полыхал Иван в гробу на всю округу известной шевелюрой, казалось — вот-вот свежеструганные доски займутся. Ни единой сединки. Со стороны живых у гроба тоже огня хватало. И Наденьки, и Сашеньки, и Толеньки…
ГОРСТЯМИ И КЛОПОДАВНО
Дед Петро справлял День Советской армии и Военно-морского флота. Давно уже в новейших святцах отсутствовал боевой праздник с таким названием, у ветерана, воина Красной армии, он проходил исключительно под данной вывеской. И хотя на календаре красовалось 19 февраля, а не искомое 23-е, веселье было в разгаре.
Дед Петро сидел на полу с гармошкой в руках и пел: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд…» Продвигалась дивизия к месту кровопролитных боёв за новую жизнь, не торопясь. Только разойдётся по пересечённой местности, как: стоп, машина, слазь, шофёр, не работает стартёр! Причина, конечно, не в стартёре — «что-то горло дырынчит, надо горло промочить». Благо, бегать далеко не надо — бутылка рядом стоит. Промочит певец голосовые связки, устранит вокальные помехи и по новой растягивает меха «по долинам и по взгорьям».
Текст в исполнении деда Петра до последней буковки соответствовал оригиналу, не подкопаешься, тогда как в музыкальное сопровождение то и дело вкрадывалось враньё. Когда оно становилось вопиющим, дед Петро в сердцах отрывал пальцы от клавиатуры и возвращал песню на исходные позиции, дабы к месту назначения, «Приморью», добраться без помарок. Поставил себе целью безошибочно взять «белой армии оплот».
Музыкально-боевые манёвры происходили далеко за полночь, песня на колыбельную не тянула, дочь Елена маялась в соседней от музицирования комнате. Сказать отцу: «Заканчивай поход, пора спать!» — знала по опыту — ничего не даст. А придумать, как по-другому прекратить продвижение войск, не могла.
…Родова у деда Петра была голосистой и певучей. В довоенные времена на свадьбе тётки как затянут на Бог знает сколько голосов «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю», как поведут мелодию по душам односельчан, те про вино и закуску забудут. Будто околдуют Рыбаси, ничего не надо — пели бы и пели… А дядька на баяне…. Петро глаз с дядькиных пальцев, летающих по клавиатуре, не спускает, в голове одно: «Научусь так же, истинный Бог, научусь». В будни приставал: «Дядя Андрей, научи!» Тот всё откладывал…
В госпитале, очнувшись безногим, первым делом спросил:
— На баяне буду играть? Руки целы?
— Даже на рояле!
— Не, на баяне дядька обещал научить.
— Девок охмурять! — подмигнула медсестра.
— Не, песни играть! — застеснялся Петро.
— Будешь, солдатик. Обязательно будешь!
Но жизнь, расстреляй её комар, понесла по кочкам, только держись. Не до певучих чёрно-белых кнопок. Не раз сокрушался Петро: «Рано Гитлер, бисова кровь, войну открыл, ой, рано. Не дал баян освоить. Сейчас бы жил не тужил…»
Приходилось инвалиду тужить. Всякое бывало. Одно время фотоделом подкармливался. Из аппаратуры фотокамера и ничего больше. А тогда не сейчас: щёлк-щёлк и без всяких проявителей-закрепителей огребай монету. Всё врукопашную. Денег на фотоувеличитель где взять? Кроме финансовой проблемы ещё одна существенная — электричество до родной деревни ещё не дошло. Как тот солдат, что из топора кашу варил, разведчик Петро одним фотоаппаратом обходился. При помощи системы зеркал, установленных в состыкованных трубах, солнечный свет залучал в тёмную комнату на самодельный увеличитель, с объективом от той же фотокамеры. Так печатал снимки со свадеб и других деревенских событий. И вздыхал: будь в руках баян, королём бы жил, обрабатывая сельские праздники.
— Ничего, мы ещё сыграем, — упрямо твердил. — Гармошку всё одно освою.
Когда женился, супруга Настасья сразу в штыки встретила мечту о музыкальном будущем.
— Не дури, — злилась на упрямые мечты.
— Боишься, расстреляй меня комар, буду баб охмурять, — смеялся Петро, тогда совсем не дед.
Самое интересное, будучи в солидном возрасте, музыкальные мысли из головы не выкинул.
На юбилей в шестьдесят пять лет дети подарили гармошку.
Радости было. Аж подпрыгивал на протезах.
— Эх, гармошечка-гармазеюшка! — гладил инструмент. — Долгожданная моя!
Пробовал на звук и светился, припадая щекой к мехам.
— От, золотенькие у меня детки! От, Леночка и Боречка! От, угодили папке!
Со шкодным лицом пел:
Растяну меха гармони!
Заглушу аккордеон –
Третий день милашка гонит
И меня, и самогон!
«Растянуть меха» он мог, а вот «заглушить» кого-нибудь стройной музыкой — увы… Тем не менее весь вечер за столом не отпускал подарок от себя.
— Дай поставлю на шкаф, — говорила жена. — Чё без толку держать. Не умеешь ведь!
— Не трожь, мамка!
Уже на следующий день «мамка» категорически потребовала в её присутствии не музицировать.
— Мне твои упражнения-испражнения не нужны! Без них нервы истрепал за сорок с лишним лет! Умел бы, тогда другое дело. Не смеши людей!
— А как я научусь?
— Только не в моём присутствии. Без меня хоть ложкой хлебай… А когда я дома, никаких пиликаний…
— Ты всегда дома!
Пришлось поставить гармонь на шкаф пыль собирать. Но самоучитель дед купил, теорию осваивать, листал и сам над собой смеялся: «Это, расстреляй меня комар, как девок по переписке целовать».
Лет пять стоял беззвучно инструмент на шкафу.
— Испортится без дела, — сокрушался потенциальный гармонист.
И только через полгода, после того как схоронил жену, достал «гармазеюшку».
Хотел в кружок записаться. Обзвонил все клубы, ни одной студии для гармонистов не нашёл.
— Ну, и дураки! — оценил ситуацию. — Сам научусь!
На кнопки клавиатуры наклеил кружочки с названиями нот: до, ре, ми и так далее. Приступая к разучиванию песни, писал свою партитуру. К примеру: до 2, ми 3, соль 1. Что означало в переводе на язык действий: до нажимать два раза, ми — три… Длительность звуков — целые, половинные, четвертные — не обозначались в оригинальной записи. По поводу этой составляющей музыки дед Петро полагался исключительно на слуховые данные. «Чё мне, симфонии играть?»
Смастерил несколько пюпитров, дабы самодельные партии песен держать при разучивании перед глазами. Для игры на полу (без протезов, сидя на полу, очень удобно) — одна подставка для нот. В случае музицирования на диване — другой пюпитр, за столом — третий. Основательно подготовился.
Разучивал песни, как сам говорил, «давя клопов», или — «клоподавно». Больше, чем на одну кнопку, сразу не нажимал.
Взялся за гармошку настырно. Играть, считал, так играть, а не мечтательные пузыри пускать. Без того уйма лет безмузыкально потеряна. Поэтому продыху инструменту не давал.
Первую песню выбрал «Во поле берёза стояла».
— Ух, у нас в разведке один хорошо её пел! Как затянет, бывало!
Действовал начинающий музыкант так. Усядется, скажем, на полу, пюпитр с партитурой поставит, и поехали:
— Во поле берё…
Конечно, каждую клавишу, прежде чем нажать, глазами поймать надо. Мелодия, и без того неспешная, у деда Петра вообще со скоростью черепахи движется. Через очки на носу посмотрит в партитуру, потом на меченые клавиши, дабы точно совместить одно с другим, извлекая песню из гармошки. На пути от партитуры до клавиатуры нередко случались досадные потери, и тогда враньё закрадывалось во вдохновенную игру.
— Деда, какую-то левизну играешь! — не могла промолчать внучка Юлька.
— Сам вижу! — психовал дед. — Молчала бы, соплюшка!
— Сам соплюх!
Пальцы у гармониста отнюдь не для виртуозных пассажей — суставы узлами, подушечки шляпками болтов — так и норовили, кроме нужной, за компанию соседнюю пуговичку прихватить. То и дело инструмент блажил аккордом, не предусмотренным нотной грамотой. Случалось, на пути к цели палец за палец запнётся, опять затык.
Дед не отчаивался от таких мелочей. Тем более, играл и пел одновременно. Враньё сопровождения покрывал вокальной партией.
— Во поле берёза, — к примеру, бравенько сыграет и споёт без помарок. Как результат — головокружение от успехов. Забудет, какого следующего «клопа давить».
— Вот, расстреляй меня комар! — ругнётся, возвращается к началу песни: — Во поле…
И тут же другая заковыка — палец оступится, не на ту пуговку попадёт.
— Ну, старый тупень! — обзовёт себя, но продолжает упорно гнуть своё: — Во поле берёза…
— Когда она у тебя стоять будет? — не выдержит Елена.
— Ты лучше борщ не пересоли! — защитится музыкант. — Кричишь под руку. Сама вечно соли набуровишь, без самогонки в горло не лезет.
— Тебе лишь бы повод осамогониться найти! То не лезет — пересолила, то не лезет — другая холера!
— Во поле берёза стояла, — удачно перейдёт трудную часть гармонист, — во поле…
И опять тормоз — не может отыскать, с какой клавиши продолжать «кудрявая»…
— На полу неудобно играть, — найдёт выход из заминки, — некуда меха растягивать.
Начинает перемещаться на диван. С помощью Юльки установит диванный пюпитр.
— Ничего, — усядется поудобнее, — оно всегда морока в ученье, зато потом, как заиграю, все девки на гулянке мои. «Не забуду четверга, было девок до фига…»
Спел частушку а капелла, без гармошечной поддержки.
— Дед, а зачем тебе девки? — Юльке везде надо успеть.
— Любовь крутить!
— Старые любовью не занимаются, — Юлька с апломбом. — У них импотенции нет.
— Юлька, схлопочешь по губам! — выскочит из кухни Елена.
Дед, прикрывая внучку, громко заведёт в который раз:
— Во поле берёза стояла!
— Во поле кудрявая стояла, — помогает внучка, но быстрым ритмом собьёт, не давая дойти до заветного «люли-люли».
— Юлька, не мешай!
— Дед, ты опять сегодня не заломаешь берёзу! А зачем её ломать?
— Чтобы тебя прутиком выпороть! Может, старших начнёшь уважать! Любовь они, видите ли, крутить не могут!
— Папа, прекращай! — снова прибежит из кухни Елена…
Так бился за музыкальное будущее наш гармонист.
К моменту действия сегодняшнего рассказа, когда дед Петро праздновал День Советской армии, он уже прошёл начальный этап ученичества. И, как всегда самоуверенно, считал, что победил гармонь. Клавиатура всё ещё была в кружочках, хотя гармонист уже свободно ориентировался в расположении клавиш. На гулянках после первой рюмки рвался поразить гостей исполнительским мастерством, хватался за инструмент. Не всегда Елене удавалось вовремя пресечь гармошечные порывы. За душу, что там говорить, музыка из-под пальцев деда Петро никого не брала. Если и развлекала гостей, исключительно как цирковая экзотика: древний дед гармошку на восьмом десятке освоил.
Как бы там ни было — мелодии наш герой научился «клоподавно» выводить. С поддержкой басами дело обстояло хуже. Правая рука с левой никак не могли спеться. Одна в лес, другая — по своим делам. «Горстями», так образно называл дед Петро игру аккордами, — вообще плохо получалось.
Это не смущало гармониста, играть он любил. Репертуар был не слишком богатый, но по одной песне на все случае жизни. «Заламывал берёзу», Сулико из одноимённой песни искал, выпрашивал у мороза милость по отношению к себе и коню белогривому… Согласно тематике февральского праздника, растягивал меха «по долинам и по взгорьям…»
«Дивизию» на место боев вёл с привалами, на которых прикладывался к бутылке и дремал, положив голову на гармошку.
В эти моменты Елена радовалась: «Кажется, успокоился».
Однако вскоре опять «шли лихие эскадроны».
В одну из пауз дочь осторожно выглянула. Отец спал, привалившись спиной к стене, голова на мехах. Елена осторожно взяла бутылку, где оставалось граммов сто пятьдесят (на пару часов «похода дивизии»), на цыпочках унесла. Затем вышла на лестничную площадку, повернула рубильник, отключила электричество в квартире, для правдоподобности картины — погасила лампочку на площадке.
Вскоре дед Петро проснулся.
— Чё темно-то, расстреляй меня комар? — обратился в ночь. — Лена, ты погасила?
Не дождавшись ответа, пошарил рукой вокруг себя. Играть и петь в темноте мог, но сугубо при наличии смягчителя «дырынчащего» горла. Коего не находил.
С трудом поднялся на протезы, щёлкнул выключателем в комнате, затем — в коридоре. Повозился с замками, открыл входную дверь.
— Расстреляй меня комар, — проворчал, — и здесь нет. Сволочи! День Советской армии идёт, они свет вырубили! Сталина бы на вас!
— Лена, — обратился за сочувствием к дочери, — холодильник разморозится…
Долго ворчал, укладываясь на диван.
«Вот я умно сделала! — мысленно гладила себя по голове Елена. — Вот хитро придумала!»
А гармонисту в ту ночь приснился волшебный сон, в котором молодой Петро был одновременно в двух лицах: сидя на лавке, играл на баяне, да так играл, что пальцы в умопомрачительной скорости носились по клавиатуре от верхнего края до нижнего, не давая спокойной жизни ни одной кнопке! И он же на круге плясал с «гарными дивчинами». Ноги — свои родные ноженьки! — резвые да проворные! заделывали такого гопака, что земля ходуном ходила!..
ПЫЛАЮЩИЕ ГОЛОВЁШКИ
Через год, как жена Настасья умерла, дед Петро надумал бабушку завести.
— Две головёшки веселее тлеют, — сказал дочери.
Елена и сама за такой расклад. Трудно одной дом вести, когда Юлька маленькая, отец — инвалид. С бабушкой всё легче будет.
Первая кандидатка в головёшки через три дома жила. Не прочь была вместе с каким-нибудь старичком тлеть. И площадь для этого есть. Своя однокомнатная квартира. Завидная головёшка. Пригласили её на семейную гулянку. Дед Петро, приняв на грудь, бульдозером пошёл на невесту. Вместо того чтобы салаты подкладывать, водочку подливать, комплименты расточать и другие кавалерские знаки внимания, начал прихватывать за когда-то туго выпуклые места и недвусмысленно намекать, дескать, айда к тебе, чё время терять! Бабулька больше, как тлеть вместе, ни о чём не мечтала, тут на неё пламя рукастое налетело.
— Мне свой за сорок лет надоел до чёртиков! — наотрез отказалась идти в предлагаемый костёр. — Не хочу перед смертью новый грех на душу брать!
Дед Петро не стал принимать близко к сердцу от ворот поворот, тут же казашку Раю нашёл. Маленькая, неказистая, она никаких претензий не выдвигала насчёт телесных притязаний. Другое «но» в данном варианте но. Для Елены особенно. Своего жилья Рая не имела, зато родственников добрый аул. И не в далёких степях Казахстана — в Омске. В частном секторе. Мыться, стираться как наедут, Елена не знала, куда бежать. Табор. Одни в ванне плещутся, другие на пол в большой комнате рассядутся, как в юрте, чай пьют. Подрастающее поколение в огромном количестве во всех комнатах на ушах стоит. Одним словом, от этой головёшки такой пожар разгорелся.
— Из-за них с Юлькой не могу позаниматься! — жаловалась Елена.
Отцу хоть в лоб, хоть по лбу. Казашка Рая нравилась вместе с роднёй.
— Дак, хорошо! Люди вокруг, весело.
— Какие люди? Содом! Хоть святых выноси!
На святых и вышла нестыковка.
Казашка Рая — мусульманка, тогда как дед Петро любовь к салу всосал с молоком матери. За пятьдесят лет осибирился основательно, на украинскую мову только в моменты сильнейшего душевного волнения мог сбиться, тогда как аппетит к национальному продукту морозы не высушили. Дня не проживёт без него. Казашка Рая видеть сала не могла. Покрывалась аллергическими пятнами…
Дед Петро решил, что поступиться национальным достижением ради любви — неподъёмная цена. И затушил казахский пожар русским выражением: а идите вы все куда подальше.
Вступив на женительную тропу, остановиться не мог. Вскорости после казахского нашествия появилась Лида. Бабушка-старушка очень даже исключительная. Шестьдесят пять лет от роду, ей и пятьдесят пять не дашь. Яблочко наливное, а не бабулька. Моторная, страшное дело. Все сериалы посмотреть успеет, заодно и сготовить, и постирать. На что Елена проворная, не могла за ней угнаться. Ростиком небольшенькая. «Полумерок я», — иронизировала на свои формы. А силы!.. Ничего не стоило схватить деда Петра и поднять с пола на диван. Ветеран хохочет:
— Ты, Лида, мотор в юбке!
Пользуясь костровой терминологией, можно сказать, со всех сторон замечательная подвернулась головёшка. Дед Петро рядом с ней разгорелся в ладного парубка. «Права была цыганка!» — говорил. До войны нагадала ему одна: «С ногами у тебя, касатик, выйдет плохо, а последняя жена будет чёрной масти». Лида соответствовала этому описанию. Брюнетка, несмотря на возраст.
Елену старинные цыганские предсказания не волнуют, зато какая подмога! Нарадоваться не могла! Пока обухом по голове не заявил отец: «Буду жениться по всем правилам».
Пусть без фаты и галстука-бабочки, но с официальным загсовым штампом в паспорте. Мол, всё должно, как у людей, а не потаскушным методом. «Мы не подзаборные собаки! Я чё, зря кровь на войне проливал?!»
От такой честности у Елены давление начало зайцем скакать, а мысли — блохами.
Сошлись, называется, головёшки веселее тлеть.
— Ну, а вдруг ты умрёшь, квартира как? — пытается отцу втолковать.
— Чё ты меня хоронишь?
— А вдруг она на развод подаст? — возник у Елены в голове ещё один невесёлый вариант супружества головёшек. — Начнёт жилплощадь оттяпывать?
— Надо верить людям! И цыганка нагадала!
— Ему говоришь стриженый, он — бритый! Живите на здоровье без всяких загсов!
— Мы не подзаборные собаки!
— Дались тебе эти собаки! Ты нас с Юлькой хочешь сделать подзаборными! Без квартиры оставить!
Да его разве переговоришь. Упёртый! Во всех отношениях. К примеру, кто бы ему что ни делал — всегда плохо. Нередко до смешного доходит: не знаю как, но не так. Всю жизнь провёл на позиции: лучше его никто «не сробит». Даже если сам не может, из шкуры вон лезет под руку с советами. Уверен на все сто: только с его мудрыми подсказками что-то путное может получиться. При этом ценными указаниями доводит исполнителя до истерики. Топор тот держит не так, рубанок не эдак, кистью, как метлой, машет… Словом, одни безрукие и безголовые вокруг.
По этой причине сын Борис долго не соглашался копать колодец на даче у Елены. Согласился с одним жесточайшим условием — отца близко не будет. Пусть безвылазно дома сидит.
— Если появится, — сказал сестре, — брошу всё в ту же минуту, и ноги моей больше не будет. Начнёт из меня дурака делать!
Папин сынок, одним словом.
Как ни буйствовал дед Петро на ультиматум старшего чада, пришлось согласиться.
— Да будь свои ноги, расстреляй меня комар, просил бы я вас!
Через Елену надавал советов. Непременно стыки колец раствором скреплять. Последнее кольцо на две трети должно в воде быть… И так далее. Елена записала техническое задание на бумажку. Роспись только забыла взять.
— Знаю без наставлений! — отмахнулся Борис от бумажки. — Я выкопал одиннадцать колодцев, что мне его теория.
Копал с помощью друга. Хорошо получилось, без перекосов.
— Неправильно! — принёсся дед Петро на следующий день. — Неправильно! Я не так говорил!
— Вот же! — Елена предусмотрительно бумажку с техзаданием сохранила.
— Они не дошли до жилы.
— Ты сам просил последнее кольцо на две трети в воду опустить!
— Нет, воды будет мало, надо углублять!
— У всех так.
— Потому и маются без воды в засуху!
Борис отказался заниматься «мартышкиным трудом»:
— Делать мне нечего из пустого в порожнее надрываться!
Мысль об углублении колодца глодала деда Петра всю зиму, в которую с бабушкой-невестой Лидой познакомился. Эту головёшку надумал (зачем тратиться на работников) послать на исправление огрехов сына.
— Ты сама говорила, что чистила в деревне колодец. А здесь — то же самое. Подкопаешь по кругу, чтобы кольца сели. Не боись!
— Я и не боюсь!
Дал дед Петро указания, бабушка-невеста опустилась в земное чрево.
— Петро, — сосед спрашивает, — ты что — уже баб в колодце солить начал?
— Вас ведь, расстреляй меня комар, не допросишься.
Лида, согласно наказу, подкапывала по окружности кольца. Дед, опасно перевешиваясь во чрево колодца, командовал сверху.
— Сделаем в лучшем варианте! — бабушка-невеста кричит.
Не получилось. Из-под кольца хлынула вода, пошёл плывун.
— Ой! погибель моя! — заголосила головёшка. — Господи, спаси-помоги!
— Чё ты орёшь! — утешил жених. — Сейчас пройдёт!
Ошибся в прогнозе. Кольца заскрежетали, начали смещаться. Трагические звуки наверху было жутко слышать, а уж внутри колодца... Бабушка-невеста истошно завопила, накрыв голову руками.
— Хватайся за верёвку! — закричала Елена. — Скорей!
Кольца пошли вбок, Лида мёртвой хваткой вцепилась в верёвку. Елена вырвала работницу наружу.
— Ой! смертушка чуть не настигла! — голосила та, поспешно переодеваясь в чистое.
— Вот и остановились! — глядя в колодец, сказал заказчик. — Иди посмотри. Завтра можно продолжить.
Смотреть бабушка-невеста не стала. Поспешно развернулась на выход и запылила с дачи, куда глаза глядят.
На радость Елены плывун бесповоротно отпугнул головёшку от совместного тления.
А дед Петро, снова оставшись вакантным женихом, вздыхал:
— Хороша была, расстреляй меня комар, девка! — Ох, хороша! Трусливая только! С кем теперь колодец углублять? Ума не приложу…
ДЕД ПЕТРО НА РЕЛЬСАХ
Дочь деда Петра Рыбася Елена — официально говоря, мать-одиночка. Замуж, был случай в биографии, сходила. Далеко на сторону угораздило. На Украину. Хороший муж был. Ласковый, добрый, с матерью, Лениной свекровкой. У той хозяйство-о-о… Огород до горизонта. Свиней — резать не перерезать. Коров — доить не передоить. Кур — щупать не перещупать. Мама-свекровь всей этой до последней кошки оравой, включая сына и невестку, командует. Кто слово поперёк — сразу расстрел и девичья фамилия.
В один момент Елена вернула мужнину фамилию обратно — жить под дулом не сахар! — и отправилась обратно в Сибирь-матушку. Щупайте сами своих коров со свиньями, режьте кур и другую водоплавающую птицу.
Приехала к отцу. Однако Украина даром не прошла. Во-первых, дочь Юлька. Во-вторых, заразилась огородными бациллами. Пристрастилась на даче клубнику в обширных масштабах выращивать. Засадила ей дачный участок под самый забор, под самый домик.
В период снятия урожая жизнь требует плантацию сторожить. Не то оберут сладку ягоду, будешь потом у голого огорода горе-горевать, так как результат твоих потопроливных трудов чужому дяде достал ся.
На даче ночевали или дед Петро, или Елена. Последняя не очень надеялась на первого. Может, приняв на грудь, заспать набег ворогов, старалась самолично нести караул, с ружьём в изголовье. Хотя всего один заряд имелся в боевом арсенале, но огнестрельное вооружение — не палка о двух концах, которой только воробьёв гонять от ягоды.
Охрана объекта получалась бы без проблем, кабы не Юлька, которую в детский садик для воспитания требуется почаще водить.
В то воскресенье Елена наладила деда Петра с внучкой домой, чтобы утром доставил её в дошкольное учреждение.
И вдруг среди ночи стук в дверь. На небе ни звёздочки. Темнота бандитская, а тут гости нежданные. Елена взяла ружьё наизготовку.
— Кто? — навела дуло на дверь.
— Там дед идёт.
— Какой дед?
— Инвалид на протезах.
Это уже теплее.
— С ним девочка Юля.
Боже мой! Откуда? Как? Что случилось?
В изложении деда Петра события развивались следующим порядком.
«Запорожец» в тот период на приколе стоял, на дачу электричкой добирались. Возвратившись с внучкой домой, дед Петро отпустил Юльку погулять перед подъездом, сам прилёг.
— Уставши был, — объяснял дочери.
— Знаю твоё «уставши»! Выпил, наверное!
— Никак нет, расстреляй меня комар! — не сознался дед Петро. — Очень притомился в электричке — духота.
Отдохнувши после усталости, проснулся и запаниковал от чувства ответственности за данное поручение — внучку в садик пора вести. У них заведующая — зверь, страх как не любит опозданий. С максимальной скоростью протезных ног выскочил во двор, схватил Юльку, которая возилась в песочнице. Елена сто раз наказала, провожая с дачи: «Смотрите, не опоздайте! Устала из-за вас замечания выслушивать. Неужели нельзя пораньше выходить!»
Примчались в садик, там закрыто.
Дед Петро поначалу перепугался: «Опять опоздали, расстреляй меня комар!» Потом успокоился, состояние детского дошкольного учреждения говорило само за себя — не работает. Ни тебе детских голосов, ни командных воспитательских. Беззвучная тишина.
«Карантин», — поставил диагноз ситуации.
В таком разе делать в городе нечего. Надо ехать на дачу, помогать Елене собирать клубнику. Как раз скоро электричка.
В пути от скуки Юлька принялась развлекать деда:
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик!
Тише, Танечка, не плачь,
А то будешь там, где мяч.
— Где только гадостей набираешься? Мать услышит, задаст перца!
— Ванька Манякин в группе рассказал. А знаешь, что такое любовница?
— И чё? — заинтересовался дед познаниями внучки в семейных передрягах.
— Когда у дяденьки есть жена, а он ещё одну тётеньку любит.
— Тоже Ванька научил?
— Ага! — радостно подтвердила догадку Юлька. И дальше деда пытать: — Секс, знаешь, что такое?
И, будучи уверенной в дремучести собеседника, сразу сообщает:
— Это когда дяденька с тётенькой ложатся в кровать и любовь крутят.
— Я твоему Ваньке уши-то оборву по самую задницу, когда карантин закончится. И ремнём отхожу. Не побоюсь воспитательниц и другое начальство! Куда они только смотрят?!
Короче, не скучают в дороге старый да малый. Ведут развлекательно-воспитательные беседы. И вдруг дед Петро, глянув в окошко вагонное, начал сомневаться во времени суток. Солнце должно задорно подниматься над лесами и полями, оно устало к горизонту жмётся.
И спросить не у кого, в какую сторону светило путь держит: кроме пустых скамеек, в вагоне одна бабка находится со стервозным видом. Обратись к такой, обзовёт при внучке алкашом, который день с ночью не соображает.
Прилип дед к окну, следит за движением солнца, куда оно наладилось? Под купол неба? Или за край земли?
И как ни хотел, дабы сбылось первое, как ни подгонял: «Ну, давай, иди вверх!» — расстояние между горячим шаром и горизонтом не увеличивалось, а наоборот…
— Дед, знаешь, что такое любовь крутить?
— Отстань ты, банный лист! Я запутался — утро или вечер сейчас?
— Какая разница?
Разницы деду, неработающему пенсионеру, и Юльке, дошколятнице, не было никакой. Кабы не существенное обстоятельство: последняя вечерняя электричка до дач не доходит шесть километров.
«Заночуем в посёлке, — постановил про себя дед Петро, окончательно убедившись, что на дворе вечер, в ночь переходящий. — Где мы, разведчики, не пропадали».
Слишком хорошо разведчик подумал о поселковских. Те ненавидели дачников лютой ненавистью. Жили, горя не зная, многие годы. Сами по себе. Что хочу, то и ворочу. Вдруг полчища чужаков нагрянули.
Вокруг посёлка до горизонта нарезали дачных участков. И закатилось тихое счастье. Машины снуют. Электрички толпами народ туда-сюда возят. Жизнь как на вокзале.
Отсюда попытки деда напроситься на ночлег кончились плачевно. Даже наличие внучки не разжалобило аборигенов. А вокзальчик на ночь закрывался.
— Стрелять вас надо, куркулей! — заругался дед.
— Что такое куркуль? — спросила Юлька.
— Сволочь! И хватит вопросов, пошли к мамке!
Шесть километров — пустяк для летнего времени. Не зимой в мороз. Но это если свои ноги из нужного места растут — не протезы. И темнота сгущается. Как только солнышко, порядком подкузьмившее в этот день, зашло, сразу тучки набежали, весь небесный свет закрыли.
Дед, старый разведчик, не растерялся, принял единственно правильное решение — идти вдоль железной дороги. Рельсы блестят, путь указывают.
Юлька, внучка разведчика и дочь мамы-туристки, держится молодцом, не капризничает, наоборот, деда развлекает:
— Дед, знаешь, почему сначала видим молнию, а потом гром гремит? Ага, не знаешь! Потому, что у нас глаза впереди, а уши сзади.
Двигались они с такой скоростью, что пройденное расстояние увеличивалось в час по чайной ложке. Соответственно, оставшийся маршрут в таком же объёме уменьшался. Протезы они ведь не родные ноги, сами не передвигаются, волочь надо.
Когда Елена, оповещённая ночным посетителем о путниках, бредущих из последних сил на дачу, прибежала к ним с ружьём на плече, картина имела следующую композицию. На Юльке висел до пят пиджак деда. Температура окружающей среды стояла на прохладной отметке. Дед в майке передвигался на четвереньках. Бодрости в протезах не осталось. Сам бы давно завалился где-нибудь под насыпью в кустах и спал до утра. Старому разведчику не привыкать. Но Юлька… Поэтому, вспоминая военное прошлое, сотни километров исползал в тылу врага, передвигался на четвереньках. Под майкой характерно оттопыривалось.
— Ты ещё и пьёшь! — заругалась Елена.
Поллитровку дед купил в посёлке, когда отчаялся устроиться на ночлег.
— Смотри, — достал бутылку, — только, расстреляй меня комар, для поддержания сил, всего граммов сто пятьдесят выпил. Не соображаю, думаешь, чё ребёнок на шее?
Надо согласиться, «соображал», отпил не больше названных граммов.
— Ты зачем потащился сюда? Чё стряслось?
— Дак, думал утро, оно — вечер, садик закрыт…
— И Юльку в этом грязном платье в садик повёл?
— Чё грязное-то?..
— Мам-мам, а дед не знает, что такое секс!
— Она у тебя, Ленка, такая умная стала. Пора ремешком поучить по одному месту.
— Вас бы обоих ремешком пора!
— А меня за что? — закапризничала Юлька.
Елена не стала пояснять вердикт приговора, взяла дочь на руку, отца под руку, и пошла троица с ружьем на женском плече в сторону частной собственности, громко именуемой дачей.
ЗА НЭНЬКУ СТАРЭНЬКУ
Андрей Матвеевич Игнатьев узнал о смерти стародавнего друга Петра Рыбася с опозданием.
— Не проводил, — сокрушаясь кивал головой. — Попросил сына в деревню свозить, а возвращаюсь… Эх! И вообще, два последних года всё никак не мог к вам выбраться… Звонил и то редко…
Он приехал к Елене с бутылкой. С порога направился к большой фотографии, что стояла на тумбочке. Друг был запечатлён в полевых условиях. Притулившись к толстому стволу берёзы, стоял большой, красивый, лет пятидесяти, молодой, с грибной корзинкой в руке. Тут же на тумбочке лежала фотография могилы. В венках, с крестом.
— Рядом с родителями похоронили?
— Только там хотел.
Сели за стол. Андрей Матвеевич — старик ещё крепкий. Сухой, высокий.
— Убери, убери! — увидел на столе рюмки тонкого стекла. — Мы с Петром эти фифочки не признавали. Рабоче-крестьянские давай...
— Мать покупала, — достала Лена гранёные рюмки, — я ещё в школе училась. Штук сорок, с прицелом на свадьбы, похороны… С пяток осталось.
— Эх, — наполнил Андрей Матвеевич рюмки, — Петро, бывало, скажет: «Выпьем за нас и за нашу нэньку старэньку, шо учила нас горилочку пить помаленьку». Ну, помянем…
Андрей Матвеевич вбросил в себя водку.
— Я ведь, Лена, — сказал, закусывая солёным помидором, — по гроб жизни твоему отцу благодарен. Поди, и не знаешь. Вам некогда было нас слушать. В омском госпитале я распаскудился. Водка, карты... Комиссаром госпиталя был Слюнков Геннадий Алексеевич. Седой. Тактичный. Никогда голоса не повышал. И убеждал: учитесь, сынки. Мы — офицеры — от военкомата зарплату получали. И благополучно пропивали до копейки. Да в «очко» резались. Шулера около нас крутились, чистили... Офицеры — большинство молодняк. В восемнадцать лет от мамкиной печки забрили, полгода курсов и на фронт. Где ты уже не баран начихал — командир. Ординарец тебе сапоги драит, котелок пожрать несёт. А мне ногу под Станиславом оторвало, я опять нуль без палочки. Никакой специальности в руках… Слюнков нас вразумлял, а Петро у него первый помощник на общественных началах. Он не по годам с головой был. И на войне активистом, комсоргом, и тут авторитетный. Главврачу скажет: «Выписывайте этого, толку не будет». И выпроваживали. «Какие вы офицеры, — костерил, — вы чурки с глазами, половину стесать надо, чтоб люди вышли! Нам, безруким, безногим, о завтрашнем дне думать, как на хлеб зарабатывать, а вы зеньки заливаете…»
Гонял картёжников. Ночью, бывало, играем-играем, вокруг спят, вдруг кто-то банк сорвал — сразу крик на весь этаж. Петро вскакивает и айда крестить костылём. Ни на кого не смотрел. С нами лежал один Герой Советского Союза… Лаврентьев. Танкист. В первые дни, как привезли, прооперировали, тихо себя вёл, а потом духу набрался. Покрикивать начал. Без ноги тоже. Как-то сидим вечером, в карты режемся. Тина в ту ночь дежурила. Хорошая, ко всем с жалостью была девчонка. Днём в мединституте училась. В тот вечер что-то задержалась с уколами, заходит в палату, он как давай упражняться: «У меня боли, а ты мандавошка!»
Тина в слёзы. Петро взвился, схватил тросточку этого выступалы, у кровати стояла, да как начал его охаживать. Потом сграбастал и потащил к окну, выкинуть хотел с третьего этажа... Так обозлился. Ребята не дали…
Позже они помирились. Уходя из госпиталя, Лаврентьев подарил Петру ту самую тросточку. Я о нём потом в книжке читал. Два наших «ИСа» — танки «Иосиф Сталин», — одним Лаврентьев командовал, за полчаса тридцать два немецких танка уничтожили. Сорок четвёртый год, немцы упёрлись на одном участке фронта, кажется, в Польше. А «ИСы» только-только появились. Парочку прислали. Ночью один в одном леске расположился, другой — в соседнем замаскировался. Когда немецкие танки пошли буром, они пропустили часть, а потом как давай щёлкать. Сначала впереди себя разобрались, а потом развернулись и задних. Кажется, один семнадцать подбил, другой — пятнадцать. За полчаса боя оба командира танков по Герою получили. Лаврентьев потерял ногу, когда за звездой в штаб поехал. Не на танке, конечно. А надо было…
Петро вдалбливал мне: «У нас на двоих одна нога, и то — у тебя. Нам мозгами надо шевелить против течения». Заставил-таки учить бухгалтерское дело. Сам-то долго счёты не мог бегло освоить. Бывало, три раза одно и тоже пересчитывает, щёлкает, щёлкает — и всё разный ответ. Матерится. Я его натаскивал. В результате оба бухгалтерами стали… А так бы я спился… Махнул ведь на себя увечного рукой.
Андрей Матвеевич взял фотографию с кладбища. На вытянутой руке долго рассматривал.
— Не удивлюсь, если на тополе, что рядом с могилкой Петра, какие-нибудь фрукты вырастут. Помню, первый раз приехал к вам, когда ещё на Рабочих жили, подводит к чуду-юду: из одного пня четыре разные яблони растут.
— Природе никогда не доверял, — закивала головой Елена, — на не привитое дерево спокойно смотреть не мог. И гордился, что ещё в тридцать восьмом году пацаном исправил украинскую пословицу: дождёшься, когда на вербе груши вырастут. Аналогичную русской: когда на горе рак свистнет. Вырастил на вербе груши…
— Ему, бывало, что в голову втемяшится… Помню, в начале шестидесятых он в госпиталь попал, я к нему пришёл проведать с бутылочкой тёщиного производства, выпили «за нас и за нашу нэньку…», за разговором Петро размечтался: «Вот бы попробовать гнать самогонку из сахарной свёклы. Это же какая халява-расхалява! На сахар деньги не тратить. Его в этой свёкле за глаза...» А в году девяносто четвёртом звонит, приглашает отведать...
— Ой, не вспоминайте этот ужас! — сделала плаксивую мину Елена.
— Самогонка, конечно, вонючая! Но ведь осуществил мечту.
— Муками моими! Никогда не забуду ту зиму!
Они взяли участок под дачу. Десять соток, голимая целина. Чем засаживать? «Сахарной свёклой!» — загорелся дед Петро. И засеяли под самые колышки будущего забора. Уродилась дуром. На грузовой машине вывозили. «Ух!» — потирал руки дед Петро. И встала задача выделить сахаросодержащий сок — на бражку. Книжек на всякие случаи жизни, как сейчас, не было. «Три на тёрке!» — скомандовал отец Елене, начиная экспериментировать. Тоскливое занятие, если кинуть мысленный взгляд в погреб, забитый сырьём, — тереть не перетереть. А свёкла самогонная — не сравнить с той, что на борщ идёт, волокнистая.
Кое-как переработали первую партию. «Варить!» — дед Петро дальше следует интуиции. Каша густющая получилась. Стоит задача из неё сок получить.
«Что если стиральную машину «Сибирь» с бешеной центрифугой использовать?» — сказал дед Петро.
Каких только Елена мешочков не шила. Сначала марлевые. Рвались при первых оборотах, забивая стиралку самогонной кашей, с таким трудом натёртой. Ситцевые мешочки ненамного прочней оказались. Зато брезент воющая скорость вращения не рвала. Но и капли через него не выжималось.
Перешли на технологию подвешивания мешочков на крюки в ванной. Опять выход пшик да маленько. Отбросил дед Петро вариант с варкой. На сырую переработку натёртого материала перешёл. Прессы принялся изобретать. Почти весь урожай перевели на научный поиск. Елена ругалась про себя и вслух. Дед Петро, как истинный исследователь, азартно рвался к результату. Только к весне кое-что надавили и поставили бражку.
Бурдомага получилась термоядерная. Реакция на дрожжи, как у ракетного топлива, когда на старте с окислителем смешивается. Не успеешь бросить дрожжей — прёт шапкой из фляги на пол. «Скорей гаси сметаной!» — дед Петро отдаёт приказ. Ладно бы ложку. Банками приходилось переводить дорогой продукт на сдерживание бешеной реакции.
Вонизм вокруг процесса по всей квартире. Сок и сам не цветами пахнет. От химии брожения вообще дышать нечем.
Дед Петро, природе не доверяющий, по опыту всей жизни знал: бражке следует выстаиваться минимум дня три-четыре. Сверхзвуковая за данный период успевала плесенью покрыться.
Намучилась Елена. Наконец перешли к перегонке. Раз пропустили через аппарат, второй. А всё одно — косорыловка. Вонючая-я-я… Пока выпьешь, физиономию на пять рядов перекорёжит. Такую только в медицинских целях использовать — для лечения алкогольной зависимости…
На следующую посевную кампанию Елена заявила такое категоричное «нет» сахарной свёкле, заручившись поддержкой брата Бориса, что дед Петро вынужден был сдаться. «Да будь я молодой, — ругался, — я бы вас просил разве?!»
Можно сказать, впервые в жизни задуманное не осуществил в полной мере…
Андрей Матвеевич и Елена закурили. В раскрытую дверь балкона вплыл колокольный звон, церковь находилась по другую сторону дома.
— Месяцев за семь до смерти отец надел нательный крестик, — сказала Елена.
— Петро? — удивился Андрей Матвеевич. — Он же атеист до хрипоты! Помню, шестидесятилетие его праздновали, с сестрой Верой они разругались на эту тему чуть не до драчки…
— И до кулаков доходило. Не было гулянки, чтоб не сошлись грудь в грудь. Как специально ждали поединка идеологий. Обязательно при встрече один или другой зацепит. И чуть не до первой крови будут... Вы тётю Веру знаете, она всю жизнь любила болеть. Вообще индивидуум в семье. Ничего не умеет толком. Ни стряпать, ни солить. Но всегда полная сумка лекарств. Как при отце таблетки достанет, тот сразу: «Вер, химия зачем? Сходи к попам, побейся лбом». Та сразу в бутылку лезет: «Богохульник бесстыжий!» И пошло… В другой раз, например, тётя Вера за столом от всего отказывается: «Сегодня пост, только капустку незаправленную». «Знаешь, как попы делают?» — отец тут как тут поёрничать. «Как?» — «Мясо перекрестят со словами “это рыба”, — и наяривают в пост!» «Сегодня рыбу тоже нельзя!» — скажет недовольно тётя. «Тогда мясо преврати в картошку!» — «Дурак ты, Петя!» Это было нечто. Отец ведь её нянчил в детстве. Ему было пять, ей меньше года, когда началась коллективизация. Родителей в поле гонят, хозяйство на нём. Рассказывал: сестра дурниной орёт. Он жванку ей из хлеба сделает, она выплёвывает. Мамкину титьку надо, а не хлеб в тряпочке. Тогда отец как начнёт мотылять люльку. Та о стенки бьётся, сестра ещё пуще заливается...
— С детства у них несогласие!
— «Чё в люльке такую богомолку не придушил! — ругался отец. — О каком Боге запела бы, с моё повидав!» Запомнилось, однажды кричал в споре, как в Западной Украине рота власовцев без единого выстрела сдалась. Тут же расстреляли, не раздумывая! «Немцев никогда не расстреливали! — шумел отец. — А русских мужиков в расход! Где твой Бог был, когда они предавали и когда мы их?..» На что тётя Вера ему: «Это за грехи тяжкие!» Отца аж колотит: «Какие у меня к войне грехи накопились, чтобы калекой всю жизнь?» Отец не раз вспоминал паренька, кажется, Витю, сын полка у них был… На отдых часть отвели с передовой, Витя подходит к отцу: «Убьют меня сегодня, Петро, возьми вот шоколад». Отец ему, дескать, ты что, фронт вон где. Хотя, говорил, по виду чувствовалось — не жилец. И вот самопроизвольно взорвались снаряды, Витя, один-единственный, оказался рядом. «За какие грехи этого золотого парнишку в клочья?» — «За всеобщие!» — «Дура ты одурманенная!»
— Узнаю Петра.
— Когда в этом доме отец с матерью квартиру получили, новоселье сделали. Вас, кажется, не было. Тётя Вера пришла и с порога: «Ой, Петя, как вам повезло! Церква рядом». Ух, он раскипятился: «Да будь моя воля, порушил бы, как дядя Гриша!» Дядя отца, рассказывали, рукастый был, до всего нового азартный. Чем только не занимался.
— Это который Петра к фотографии на Украине после войны привлёк?
— Ну, чтоб папка заработать мог. Фотоаппарат подарил. На треноге. Он у нас на Рабочих долго на чердаке пылился. Дядя был отличный столяр, маляр… По сей день храню бабушкину прялку, что он сделал. А в тридцатом году верховодил активистами, кто церковь в селе рушил. На иконостасе самолично всем святым глаза выколол. Отец с гордостью говорил об этом. И умалчивал вторую часть истории. Не знаю, рассказывал вам или нет? Лишь с год назад услышала от него, как дядя в сорок шестом восстанавливал церковь. Безглазые иконы, что бабки сохранили, отреставрировал. Иконостас сделал. Всё бесплатно. И это в голодный послевоенный год, а ведь семья на плечах… Что меня удивило: отец, рассказывая, не осуждал, что дядька изменил атеистическим взглядам. Мне соседка принесла кипарисовый крестик, поблагодарила за подарок, в вазочку положила. Смотрю, папа шнурок к нему привязал, надел на шею. С ним и умер. С ним и похоронили.
Пришла Юля. На полголовы выше мамы в свои четырнадцать лет. Шумная и громкая.
— Это, что ли, Юля? — удивился Андрей Матвеевич. — Ничего себе вымахала. В деда пошла.
— В деда-прадеда бандюга! — хихикнула Юля поговоркой деда.
— Если в деда — дай-то Бог! На-ко! — Андрей Матвеевич протянул большую плитку шоколада. — Вам, молодым, сладкое полезное, а мне старику…
— Старость не радость, а биологическое состояние организма! — отрапортовала народную мудрость Юля.
— И физическое тоже, — согласился Андрей Матвеевич.
Юля буйным ветром крутнулась по квартире, за пять минут успела съесть добрую половинку шоколадки и, хлопнув входной дверью, исчезла.
— Тяжело болел последний год, — подрезала Лена колбаски на закуску. — Астма всё же придушила его.
— Как травами не лечился… Помню, всё за багульником ездил…
— Да, после ранения в госпиталях столько лекарств закачали, организм уже не принимал…
— В госпитале, бывало, доктору влепит: «Вы не лечите, а калечите!»
— Во-во. Решил к травам прибегнуть. Прошерстил библиотеки, нашёл метод траволечения. Даже врачи у него переписывали. И астма затаилась на много лет, а тут достала… Месяц, второй… Но только полегчает, только синеть перестанет, сразу как ванька-встанька — надо двигаться. Если не может сползти с дивана, будет ложиться и садиться, ложиться и садиться…
— Он всегда говорил: органы лежачее тело не обслуживают. Надо двигаться!
Опять забежала Юлька, схватила сотовый телефон с тумбочки, исчезла…
— В прошлом году на дачу уже не ездил, — продолжала Лена скорбный рассказ. — Я там, наконец-то, по-своему распланировала. Он ведь не давал. Цветник впервые сделала. Красота. На остальное времени не хватало. Разрывалась между дачей и домом, его одного надолго не оставишь. В сентябре, уже цветы отцвели, отец упросил свозить его. Приехали. «Я посижу,— говорит, — вы с Юлькой работайте». Через полчаса подхожу — на месте цветника чёрное пятно. Ползая на карачках, выполол подчистую. Только пионы — их ни с чем не спутаешь — оставил. Остальное повыдёргивал до былинки, до травинки. Думал, я без него сорняки развела. Хмель, который начала выращивать с мечтой о беседке, уничтожил. Не сдержалась, накричала... Потом расплакалась. За всё лето, говорю, на полчаса тебя допустила… А в день смерти запросился на дачу. Ты же, говорю, не спустишься по лестнице. Он только на четвереньках ползал. Сил уже не осталось…
— У него, Лена, вся жизнь не сахар. Иногда в шутку скажет: «Вся жизнь — борьба! Как с пяти лет начали на хозяйстве оставлять…» А после войны столько операций, болей…
— Умер, верю, легко. Он вам, наверное, говорил: с ним, как астмой заболел, стали происходить забавные отключки. Когда заходился в кашле, мог на краткое мгновение потерять сознание. Через это перестал ездить за рулем один. Рядом обязательно кто-то должен сидеть, на тормоз в случай чего нажать. Отключаясь, рассказывал, попадал во что-то необыкновенное: яркий свет, музыка волшебная. «Так радостно на душе, — говорил, — очнусь и жалко: остаться бы там навсегда». В то утро зашла, он баллончик, что на неделю, за ночь израсходовал, так задыхался. Поговорили про дачу, вижу — совсем невмоготу. Только набрала номер «скорой», поворачиваюсь — он заваливается…
За Андреем Матвеевичем приехал внук, Елена осталась одна. Убрала со стола. Подошла к фотографии отца. Сама её делала, ровно тридцать лет назад. Ещё в техникуме училась. А фотоаппарат отец на окончание школы подарил. Захотелось поплакать…
Но тут со слезами и наливающимся синяком под глазом ворвалась Юлька. Незнакомые мальчишки пытались отобрать сотовый телефон. Обломилось. Потерпевшая хоть и пропустила первый удар, но тут же схватила кусок деревяшки и начала беспощадно крестить грабителей направо и налево. Лишь разогнав, расплакалась…
— Дед бы точно сказал тебе «в деда-прадеда бандюга!» — прижала Елена дочь к груди. — Успокойся уже…
— Мам, а деда в рай попал?
— А ты как думаешь?..