Из цикла «Записки иконописца»
Довелось мне как-то расписывать в одном украинском селе храм, в честь иконы Пресвятой Владычицы «Всех скорбящих Радосте». Я подъехал к маленькой белокаменной церковке, когда вечерняя прохлада опустилась на землю и в воздухе медленно распространялось тёплое благоухание полевых трав, смешанное с терпким речным духом прибрежных камышей.
На звоннице тихо ударили – шла всенощная.
Вошедши в храм, я сразу же попал в мир, который бывает только в таких вот маленьких сельских церковках. Мир, в котором молитва, соединяясь с песнопениями и инкрустируясь причудливыми узорами кадильного дыма, рождает неземную красоту, которая зовётся очень просто и в то же время торжественно – «православное богослужение»...
Тут я увидел батюшку. Отец Алексий – среднего роста и возраста, с умными и добрыми глазами, в которых, я уверен, не раз отражались и радость, и печаль, и даже тонкий, свойственный умным и чутким натурам, деликатный юмор, – медленно и священнодейственно шествовал по храму, и кадильным благоуханным звоном аккомпанировал тихому хвалебному пению...
...Низложил сильныя со престол и вознесе смиренныя.
Алчущия исполнил благ и богатящияся отпустил тщи.
Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим,
Без истления Бога Слова Рождшую.
Сущую Богородицу,Тя величаем...
Как прекрасна! Как сладостна сия Боговдохновенная молитва, в этом тёплом и добром, исполненном кадильного благоухания лампадном полумраке храма!
В такие минуты острее всего, просто физически ощущаешь всю мудрость и целесообразность церковного устава и всего православного, намоленного веками, народного быта, так мастерски воспетого русскими художниками слова и пера!
Служба окончилась. Я присел на скамейку под фреской, изображающей Вход Господень в Иерусалим. Обычно в наших храмах эта фреска изображается недалеко от притвора. Я до сих пор удивляюсь тому, как верно подмечено нашими иконописцами: как Господь наш Иисус Христос добровольно, во Славе, вошёл Царскими вратами, приведшими Его к тесным вратам поругания, бичевания и даже Крестной смерти, так и мы, входя в храм, достойно должны вступить на путь несения своего, на этот раз заслуженного, креста и, пронеся его сквозь тесные врата терпения и самоотречения, услышать сладчайший глас: «Приидите, возлюбленные Отца Моего. Наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира».
Вскоре появился отец Алексий и пригласил к себе в дом «потрапезничать, чем Бог послал».
Много за свою иконописную жизнь я видел священнических домов и каждый раз удивлялся особому духу-воздуху, царившему в них. И каждый раз убеждался я, что священник – не простой человек. Он несёт в себе ту закваску, ту поэзию и ту гармонию, которой так не хватает мятущемуся миру, но по которой этот мир тоскует и к которой страстно, сам того не понимая, стремится, заливая тоску свою славянскую ненавистным ему самому зельем... Может быть, поэтому не иссякнет у нашего народа любовь к священнику, которого он зовет отцом, батюшкой и который и встречает его в начале жизни, и провожает в её конце в последний путь.
– Берите еще, Павел Аркадьевич, не стесняйтесь, – глаза батюшки светились таким детским прямодушием и желанием доставить мне удовольствие, что я не посмел ослушаться. – Сейчас будет десерт...
После радушного ужина я попросил батюшку рассказать мне о сути будущей моей работы. Батюшка пригласил меня прогуляться с ним по парку, в центре которого и стоял храм. Высоко над деревьями плыла луна, пробиваясь сквозь роскошные ветви и наполняя окружающий воздух светло-золотистыми переливами.
– Видите ли, Павел Аркадьевич, – голос батюшки был задумчив и чем-то озабочен, – вот уж четыре года не можем расписать абсиду, но причина нам, людям, в живописи не смыслящим, неизвестна. То ли сырость, то ли какой-то грибок, или грунтовка не та – Бог весть, только уже трижды расписывали и трижды осыпалось. Слышал я, что у вас «золотые» руки и голова светлая. Коли уж вы не осилите, уж и не знаю…
– Спаси Господь за доброе слово, батюшка, а перед работой прошу вашего благословения на постную пищу и прошу вас отслужить завтра молебен о помощи в добром деле.
– Бог благословит, Павел Аркадьевич, Бог благословит. Но позвольте, я вас провожу в ваши апартаменты. Конечно, не палаты, но удобно будет – Аннушка постаралась…
***
Бом… Бом… Бом… Бом – донеслось откуда-то издалека, ворвалось в мои сонные грёзы малиновым звоном и отозвалось торжественной вибрацией по всему телу. Пора на службу…
После воскресного богослужения отец Алексий отслужил молебен «на благое дело», а затем, усадив за стол и пожелав «Ангела за трапезой» поспешил откланяться.
– Простите, меня ждут. Нужно причастить больного на дому.
– Так в чём же дело. Вам ведь может понадобиться помощь? Так я вам помогу, тем более что у меня машина. А? Вместе работать, вместе и трапезовать. Идёт?
– Идёт.
Через пятнадцать минут батюшка и я подъезжали к невысокому домику, выстроенному давно и, очевидно, столь же давно не ремонтируемому. У входа стояли молодая женщина и мальчик лет двенадцати – её сын.
– Как хорошо, что вы так быстро приехали! Простите, я дочь Михаила Кондратьевича… Наталья.. Здравствуйте… – женщина очень нервничала и несколько путалась.
Нас провели в бедную, но чистую комнатку, где на кровати на подушках лежал, тяжело и хрипло дыша, Михаил Кондратьевич – дедушка, лет восьмидесяти–девяноста. Шторы были приспущены. Только старые ходики на комоде нарушали мёртвую тишину комнаты. Чувствовалось, что страждущий здесь доживает свой тяжкий, исполненный страданий и горестей, век.
– Здравствуйте батюшка. Не ожидали, что позову вас? Помните моё обещание?
– Здравствуйте, Михаил. Обещание-то я помню, но всегда ждал, что вы всё-таки позовёте, правда, надеялся при более радостном поводе. Но Господь судил иначе, и, значит, так надо.
– Значит, так надо, – повторил больной, тяжело дыша. – Исповедаться хочу, батюшка…
– Тогда попрошу всех выйти. – Отец Алексий сразу ожил и стал готовиться к Таинству – каждая минута была бесценна.
– Нет, батюшка. Я хочу исповедать свой тяжкий грех перед всеми. Так мне легче станет…
– Ну что ж, ваша воля… Мы вас слушаем, Михаил Кондратьевич.
В комнате воцарилась... нет... даже не воцарилась, а скорее захватила всех и повела за собой благоговейная и напряжённая тишина. Тишина ожидания чего-то страшного и невыносимо грустного.
Михаил Кондратьевич помолчал две минуты и начал повествование о том сокровенном и тяжёлом, что, видимо, жгло его все эти годы и скорее всего не давало спокойно спать, заставляя просыпаться среди ночи в холодном поту…
– Много лет, – начал свой рассказ надтреснутым и хриплым голосом больной, – я не ходил в храм Божий и смеялся над вами, батюшка, но все эти годы… все эти долгие годы я мучился от того, что сотворил Ему давным-давно…
Ох, и мучился… Наташа, дай мне попить. Очень в горле печёт. Вот так… Ага… Спасибо, Наташенька.
– Так вот, лет пятьдесят назад… пришёл я тогда с фронта и поселился здесь. Жинку себе присмотреть хотел. И присмотрел Лизавету Никифоровну, Лизоньку, нда-а-а. Хозяйка на все руки, краса-а-авица… а добрая какая была!
Долго не ждали. Скоро и сженилися.
Появилась у нас дочка. По первой жили мирно, складно. А потом моя стала в церковь ходить к попу на службу. Поначалу это было в диковинку в моей избе. Ну, а потом строгая стала, сурьёзная дюже… куда там..
Ну, а у меня как раз дружба объявилась с Кузьмой Савельичем, ну, и как положено, шкальничать стали. Поначалу моя молчала. А вот собрались мы как-то с Савельичем вкусить за здоровье покойной его супруги, да и перестарались немного сгоряча. Ну, надо ж было Кузьме душу отвести с кем-то.. А моя как зайдёт к нему в избу, да начни с криком о пьянстве моём, из избы вытаскивать.
Грех, говорит она, большой пить. А по мне, что грех – что не грех, всё на один бок было. Лишь бы жисть в радость была. Да где уж там радость? – махнул тяжёлой земледельческой рукой Михаил Кондратьевич. – Не признавал я Бога, батюшка. Да ты и сам знаешь…
С тех пор и гаркались, как собаки. Она на службу, а я тайком к Кузьме шкальничать. Ругала за слабость мою, ой, ругала. Дети, говорит, смотрют, а я пример какой подаю. Дай-ка мне ещё, Наташенька, попить.
Старик жадными глотками выпил всю воду, закашлялся, полежал немного и продолжил.
– Да, о чём это я... Ну, вот и не сладилось у нас с Лизаветой моей-то.
И вот, как-то перед Пасхой, в пятницу, когда по-ихнему пост и молитва, решили мы с Кузьмой в моей избе выпить за здоровье, как оно тогда называлось у нас… А моя как раз в церковь собиралась. Заупрямилась. Как сейчас помню, как заупрямилась. Не будете, говорит, в такой день грех разводить, Бог всё видит. Я так и сяк, а она ни в какую. Так и осрамила меня перед Савельичем, да в моём доме. Да что уж говорить, осерчал тогда я. Озверел. Обидел крепко Лизоньку свою, бранил, как сейчас помню. Так и пошла к службе с дочкой, в слезах. А на меня будто бес напал. Выпили мы с Кузьмой. Он и говорит:
– Не хозяин ты в своём доме, Миша, не хозяин. Подпирает тебя баба-то твоя своей верой, тьфу ты.
Выпили ещё, а тут я и говорю: а сейчас я докажу тебе, что я в доме хозяин.
Побежали мы в каморку, где она молилась, схватил я лампадку да разбил. А за лампадкой икона семейная стояла, Богородицы с Младенцем. Остановились мы с Савельичем. Не решаемся, а признать каждый не хочет. Тогда как закричу: сейчас, сейчас, сейчас увидишь, кто я в своём доме!..
Не помню, как вышел и пришёл. Помню, что в руках был молоток и гвозди.
Схватил Кузьма икону, да спьяну не удержал. Наклонился за ней, да так и заснул. Тогда я схватил доску с Божьей Матерью, положил на стол. Плюнул в образ…
Михаил Кондратьевич замолчал. Потом, понимая, что деваться некуда, скороговоркой продолжил, словно боялся, что не успеет рассказать, прежде чем хватит решимости. О том, что рассказать надо было, недвусмысленно говорило его лицо, на котором была написана гамма чувств, от стыда до раскаяния и злости на себя. Иногда создавалось впечатление, что он и забыл о нашем присутствии. Ему необходимы были внимательные и понимающие слушатели, но, когда перед его угасающим взором представали образы из непростого прошлого, он забывал о настоящем, весь оставаясь там… в своей избе, рядом с пьяным собутыльником и несчастной иконой, попавшей в нечестивые руки.
– Да… Вот о чём я хотел.. Да, кинул я тогда ту икону на стол, схватил гвоздь и молоток. Бог всё видит, говорю я, посмотрим, увидит ли сейчас. Ты всё видишь, с Ней? Сейчас посмотрим, увидишь ли теперь…
Не помню, что на меня нашло. Я бил по гвоздю, вбивая прямо в глаз Богородице. Бил, бил, бил…
Михаил Кондратьевич снова остановился и вдруг заплакал тяжёлыми горючими слезами. Заплакали и мы. Тяжело слушать ТАКОЕ!
Наконец, утерев рукавом мокрое лицо, он продолжил с упорством человека, который долго-долго карабкался к свету Божьему по тёмному и смрадному коридору и остановился в измождении, но вдруг, вдали забрезжил свет, и, забыв всю усталость и боль, он из последних сил устремился к окончанию своего тяжкого пути.
– Бил я, дурак, и бил… Пока все глаза на иконе гвоздями не заколотил. Потом туман. Проснулся от бабьего окрику. Это моя Лиза вернулась, а я сплю, упав на стол, рядом с прибитой к нему иконой. Не помню, что было, чем бранила меня. Помню, что сбёг я к Кузьме, держа пригвождённую икону в руках. Сам не знаю, зачем оторвал от стола. Может, думал починить и так подластиться, чтобы простила, потому как понимал уже, что натворил.
Как показаться дома, не знаю. С горя и запили с Кузьмой. Надолго запили. Всё ждал, что Лизонька моя простит и придёт за мной. Сам не решался идти. Так и пили до лета. Справлялся по слухам, как дома. Сказывали, что всё по-старому. Только плачет, говорят. По глазам видно, хоть на людях не показывает. Да Наташку стали дразнить соседские дети из-за меня.
Лизка моя грамотная была, стала, говорят, частить к попу – школу какую-то воскресную делают. Она и вести будет.
А в ту пору как раз церкви закрывать стали, да попов забирать. Но голова наш сельский, человек верующий, уговорился с начальниками, чтоб нас не трогали. Они закрывали глаза на нашего попа и церковь.
А Лизавета моя уж учить стала Закону свому – Божиему, или как его там. И такая меня тоска взяла, что чужие люди с ней видятся, а я тут пьянствую, что я пуще прежнего запил.
Сидим мы как-то с Кузьмой, пьянствуем по обычаю. А тут глядим, сам батюшка пожаловал, что раньше тут службу вёл.
– Чего надо, поп? – говорит Кузьма, уже плохо ворочающий языком.
– Не к вам я. К Михаилу Кондратьевичу. Я молчу, Кузьма тоже. Помолчали. Тогда поп и начал.
– Вы, – говорит, – Михаил Кондратьевич, домой-то вернитесь. Позор какой по всему селу. Елизавету-то все уважают. В глаза молчат, а позаглаза всякое говорят. Дочку твою обижают, дочкой пьяницы кличут. Нехорошо. Елизавета-то страдает.
– А ты чего, поп вшивый, учить нас вздумал? Иди к своей попадье! – вскричал Кузьма и повалился тяжко на бок.
Мне бы прислушаться к батюшке, да я пьяный был, да как вскинулся на него, чуть не побил. – Это ты виноват во всём! – кричу я. – Твоя вера мне боком вышла. Сам в свою ахинею прёшь, и моих туда же тащишь? Выведу тебя, окаянный, на чисту воду! Вон отсюда! Вон…
Что уж там. Легче мне стало, потому что теперь вроде как поп был виноват. По моему рассуждению. Оно всегда легше, когда свою вину на другого вешаешь. Ну, я и повесил. Да не токмо повесил. Поквитаться захотелось. Уж и имени батюшки того не помню. Да мне и не надо было.
Задумали мы с Кузьмой вот какой план. Ночью выкрасть у сельского головы со двора что-нибудь и попу подбросить. Так и сделали. Выпили, конечно, перед делом за смелость. Собака во дворе Кузьму знавала и не загавкала. Не упомню уж, что украли. Но всё прошло, как задумали. Наутро всё село гудело. Сосед Кузьмы забежал к нам и с порога давай кричать, что де попа поймали на воровстве. Что голова поехал жалобу писать на него. Он, говорят, так осерчал! Я тебя, говорит, выгораживал, поп, а ты вон как, шельма… Будет тебе…
К вечеру тот же сосед принёс другую новость, пуще прежней – завтра батюшку брать будут и церковь в дом тов. Ленина переименовывать. И всем, у кого в домах наидёны будут или иконы, или ещё что для справления веры, не сдобровать.
Вспомнили мы тогда про пробитую икону, что валялась всё это время в сарае. Может, если бы опять пьяные были, сожгли бы, и не испугались. А тут на трезвую голову поняли, что натворили. Да назад уж не воротишь. Про Лизу я подумал: она же первая в список попадёт. Надо было что-то придумать. Но сперва надо бы схоронить икону, кабы не нашли. А тут и у соседа глаза вострые. Приметил кто, небось, дом Кузьмы, али мой, и всё тут… кляузы писать у нас все умеют, да…
Порешили с Кузьмой в ту ночь икону отнести в церковь. Долго думали, где, а я и говорю – что удивительного, если кто икону у храма найдёт?
Ночь тёмная была. Пошли мы к церкви. А там темным-темно, а народу хватает. Кто-то шёпотом: иконы выносят, чтоб государство завтра не забрало себе, значит.
Тут слышим, позади кто-то идёт. Мы в кусты позади храма, там, где полукруг такой. Алтарь вроде называется. Так вижу, у куста, где мы прятались, лопата осталась – батюшка накануне дерево сажал. Когда такое случается, позабудешь не только о природе да лопате.
Так и закопали там, у стены, икону эту.
А наутро за батюшкой машина приехала, забрала всю его семью. Церковь-то закрыли, вместо её дом культуры сделали, имени тов. Ленина. Кто из набожных через лес в другие сёла ушёл, кого забрали, и более о них никто не слыхивал.
Только тогда решился вернуться. Страх, что забрали моих, даже водкой не смог запить. Не взяли ни Лизу мою, ни Наташеньку. – Тут он нежно посмотрел на дочку. – Не взяли, потому как слегла она, в бреду лежала. Никто из местных не признался, что она верующая. Это и спасло её, потому что, будь в здравом уме, уж точно не смолчала. Увезли бы и её.
Но это мало чем помогло, потому что, пролежав так неделю, придя в себя, простила мне всё, и.. померла моя Лизавета, из-за м….
Договорить он не смог. Мы вышли с Натальей, а батюшка остался продолжать исповедь.
Вышли мы на улицу. Светило солнышко, медленно плыли воздушные облачка, чуть подёрнутые синевой. И мало верилось, что под таким ласково чистым и радостным небом, творятся такие тяжкие деяния, кипят такие страсти. Наверное, эти мысли не впервые писаны на бумаге, и не один раз были высказаны в беседах, но, поверьте, в этот момент я прочувствовал их по-иному, чем ранее. Впоследствии я не раз сталкивался с такими проявлениями звериного образа в человеке, но тот рассказ на всю жизнь врезался в мою память, как ярчайшее доказательство слепоты и беспощадности греха.
Из слов Натальи Михайловны я узнал, что, похоронив жену, Михаил Кондратьевич отважился самостоятельно воспитывать дочку. Водка больше никогда не появлялась в этом доме, как и Кузьма, который вскорости отошёл в вечность, оставив свой дом пустым и заброшенным. Говаривали, что он зашибся, когда в пьяном виде упал в овраг, но так ли это, Наталья Михайловна не знает. Впрочем, сам Михаил Кондратьевич о нём никогда не вспоминал более, как и обо всех поведанных событиях. С тех самых пор стал замкнутым и нелюдимым, и только дочь видела его улыбку. Никто никогда не видел, чтобы за все последующие годы Михаил чем-нибудь дал повод считать себя верующим. С отцом Алексием Михаил Кондратьевич принципиально не здоровался и работал в любые церковные праздники, в том числе и на Пасху. А несколько лет назад у него обнаружили раковую опухоль…
Вскоре в сенях появился батюшка. Было заметно, что он в добром расположении. Ещё бы – ведь ещё один грешник принес покаяние, и с этого момента для него началась новая, преображённая жизнь. Жаль лишь, что это произошло уже в глубокой старости.
Но, как оказалось, отец Алексий не собирался уходить.
– Раб Божий Михаил во что бы то ни стало пожелал присутствовать при важнейших археологических раскопках в моей жизни.
Говоря это, батюшка с видимым удовольствием смаковал слова «раб Божий»!
Ближайшие 20 минут ушли на то, чтобы аккуратно перенести Михаила Кондратьевича.
Новообращённый христианин желал быстрее оказаться у храма, но батюшка ехал медленно, оберегая больной организм от тряски по просёлочной дороге. Теперь почти не осталось и следа от прошлой усталости от жизни и тягостного взгляда исподлобья. Теперь он излучал желание деятельности, которое было смиряемо лишь старческой немощью и болезнью. Это был и прежний человек, и новый. Казалось, что полуденный свет пронизывает всё его существо.
Наконец, мы подъехали к храму. Я побежал за стулом, который мы установили у абсидной стены храма, у того самого места, где два затуманенных грехом человека много лет назад закопали свидетельство своих безумных деяний.
Наталья Михайловна помогла усадить отца и остановилась позади него. Глаза её выражали страх и облегчение одновременно.
Отец Алексий и я со сдерживаемым волнением принялись рыть в указанном Михаилом Кондратьевичем месте. Рыли недолго, что неудивительно – вряд ли двое напуганных обезумевших пьяниц, в полной темноте и в считанные минуты, могли выкопать более глубокую яму. Нет ничего удивительного в том, что никто не обнаружил икону раньше – кому придёт в голову рыть под храмом. Даже в тот период, когда его постигла участь советского ленинского заведения, не было нужды в ремонте фундамента – в былые времена строили на века, а уж про храмы и говорить нечего.
Копали осторожно, понимая, что святыню достаём. Моя лопата наткнулась на что-то твёрдое и, судя по звуку, металлическое. Тогда мы более не погружали лопату в это место, а принялись копать вокруг. Наконец, показался угол святыни – элемент оклада. Трудно было рассмотреть металл. Всё было покрыто землёй и отливало зеленоватой плёнкой, приобретённой от долгого пребывания в сырости.
Прошло совсем немного времени, и мы увидели на дне образованного нами земляного колодца крупную икону. Поначалу, невозможно было ничего разобрать из-за грязи, да и икона, как оказалось, была повёрнута лицом к земле.
Всё то время, пока мы копали и вынимали икону, Михаил Кондратьевич сидел не шелохнувшись, с горящими глазами, бледный и в испарине. Можно было подумать, что это не живой человек сидит, а восковая кукла, если бы живое существо не выдавали крупные землистые руки со вздувшимися поджилками под длинными руками белой мятой, наспех одетой рубашки. Эти руки то и дело нервно сжимались и разжимались, впиваясь ногтями в ладони. Но Михаил Кондратьевич этого не замечал.
Неожиданно он вскочил со стула. Наталья Михайловна испугалась, и бросилась было к нему. Мало кто мог поверить, что ему хватит сил стоять, не навредив своему здоровью. Но Михаил Кондратьевич непререкаемым жестом дал понять, что помощь ему не нужна.
Батюшка сам вытащил святыню, перевернул её и рукой благоговейно отёр центральную часть иконы. Я вздрогнул. Увиденное потрясло всех присутствующих. Михаил Кондратьевич впился горящими глазами в находку.
Сама икона была писана красками на деревянной основе и покрыта лаком. Из тех, рецепты которых мастера передают из поколения в поколение, от отца к сыну. Иначе не объяснить тот факт, что изображение практически полностью осталось неповреждённым. Но не это поразило нас в первую секунду – Лики Богомладенца и Пресвятой Богородицы были обезображены зияющими рваными отверстиями, в тех местах, где иконописец бережно создавал очи.
И тут раб Божий Михаил перекрестился и, упав на колени без единого звука, схватив многострадальный образ, прижал к своему лицу осквернённые им же святые Лики и так застыл. Затем он разжал руки, и икона осталась в руках у батюшки. Мы стояли молча. Стали подходить люди, а Михаил Кондратьевич всё стоял на коленях. Затем он опустил голову к земле и глухо зарыдал. Казалось, всё горе, созданное за десятилетия, желал он обмыть в покаянных слезах.
А потом я взглянул на икону и тоже опустился на колени. Вслед за мной опустились и все остальные. Из пробитых очей Спасителя и Его Пречистой Матери лились слёзы. Воздух наполнился благоуханием. Шло время, но мы его не ощущали, а продолжали стоять на коленях, созерцая совершавшееся на наших глазах чудо. И главное чудо это было не в слезах прощения, льющихся из Пречистых очей Господа и Его Преблагой Матери, а в слезах покаяния заблудшей души, нашедшей, наконец, дорогу, после долгих лет одиноких скитаний во тьме и сени смертной.
***
Вскорости я благополучно расписал абсиду. На этот раз, и в этом я был уверен, краска не осыплется.
Икона торжественно, и при участии Михаила Кондратьевича, была перенесена в храм, где положена в новый стеклянный кивот, перед которым неугасимо теплится лампадка и не прекращаются молитвословия.
Спустя несколько дней миру было явлено новое чудо. Врачи были удивлены неожиданному улучшению состояния здоровья Михаила Кондратьевича и провели повторное обследование, результатом которого стал шокировавший всю округу и самих эскулапов вывод – у раба Божия Михаила более не было раковой опухоли. Говорят, что впоследствии лечивший его врач в преклонном возрасте отошёл от дел и принял монашеские обеты. Впрочем, это только слухи…
***
Спустя четыре года случилось мне проезжать тем селом, и я не мог не воспользоваться возможностью повидать добрых людей, с кем имел честь быть знакомым.
Батюшка с радостью встретил меня, засыпал вопросами и усадил за стол, на котором тут же трудами матушки оказались всевозможные яства. Поговорив о моих делах, заговорили и о делах прихода. Батюшка поведал, что и дня не проходит, чтобы кто-нибудь не заходил в храм и не просил отслужить молебна перед найденным нами святым образом. Люди приезжают, молятся, а затем присылают иногда письмо с благодарностью. Меня также не забывают, как оказалось, в своих молитвах.
Михаил Кондратьевич оставался в добром здравии и желал чем-то быть полезным храму. И батюшка внял его просьбе, благословив трудиться во славу Божию в свечной лавке.
Дела, по которым я ехал, не позволили мне остаться дольше, чем на час, и со светлой грустью покидал я ставшие родными места.
В трудах прошёл год. Как-то я получил от отца Алексия письмо, в котором он справлялся о моём здоровье и просил молитв о Михаиле Кондратьевиче. На следующий день, после Вознесения Господня, раб Божий Михаил отошёл ко Господу. Его не дышащим обнаружили на местном кладбище, стоящим на коленях у одной из могил. Голова его покоилась на возвышении, у изголовья креста, на котором было написано «Вечная тебе память, дорогая Елизавета». Лицо его озаряла улыбка.
06.10.2012. (00.20)

Комментарии
Трогательно до слёз, отец Рустик.
Оксана Кукол, 13/02/2013 - 15:43
История страшная, но вполне закономерная. Сложно говорить на эту тему, и всё же, всё же... Если бы верующая жена проявляла больше терпения к неверующему мужу, кто знает...
Очень понравилась история, батюшка!
Елена Гаазе, 13/02/2013 - 15:39
Она основана на реальных событиях?
Самый распространённый
Священник Рустик Вязовский, 13/02/2013 - 16:10
Самый распространённый вопрос
Нет,история полностью выдуманная,но уверен,что в реальной жизни происходило и не такое. Бог милостив!
Приветствую
Светлана Коппел-Ковтун, 13/02/2013 - 15:09
Приветствую Вас, о. Рустик, в нашем клубе!
Добро пожаловать!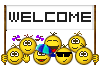
Спасибо большое!
Священник Рустик Вязовский, 13/02/2013 - 15:18
Спасибо большое!