Памяти мамы
9 ноября 2011 года Тамаре Васильевне Юковой — известной украинской переводчице — исполнилось бы 80 лет.
В читальном зале библиотеки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого прошел вечер ее памяти.
Тамара Васильевна прожила короткую, но очень яркую жизнь, наполненную творческими поисками и свершениями.
Она родилась в Киеве, в 1931 году. У моего дедушки — Василия Дмитриевича Юкова, связиста, майора Советской Армии, прошедшего всю войну, и бабушки — Надежды Петровны Юковой — выпускницы Фундуклеевской гимназии — мама была единственной и горячо любимой дочкой.
Мама окончила школу в 1950 г. с золотой медалью и поступила в Киевский национальный университет имени Шевченко на факультет романо-германской филологии, где потом много лет преподавала зарубежную литературу и испанский язык. Он стал для нее вторым родным, — она говорила на нем блестяще. И не удивительно, что переводы испанской и латиноамериканской прозы и поэзии не просто открывали нашим соотечественникам мало известного тогда мира, но были для нее истинной радостью.
В 1962 г. в издательстве «Молодь» вышла первая книга в ее переводе — роман «Лісоруби» известного уругвайского писателя Энрике Аморима, посвященного судьбе бедного, но героического юноши-лесоруба.
В том же году в сборнике «Весна Куби» (Вірші та оповідання кубинських письменників, «Молодь», К. 1962) появились ее переводы замечательных поэтов Острова Свободы: Николаса Гильена, Карлоса Монтенегро, Мануэля Наварро Луна, Роберто Фернандеса Ретамара, Файяда Хамиса.
Файяд Хамис — выдающийся кубинский поэт и художник, классик и гордость нации.
А тогда, в начале 60-х, его звезда только поднималась.
Он приезжал в Киев, выступал перед студентами Киевского университета. И стал другом нашей семьи. Уже в 1964 г. вышла его книга «За цю свободу» в переводе Тамары Юковой и Анатолия Довгоноса (Файяд Хаміс. «За цю свободу», Поезії, Молодь, 1964).
Мама не оставляла занятий переводами до конца своей жизни. Стихи ее любимых латиноамериканцев постоянно публиковались в поэтических сборниках, журналах («Всесвіт», «Дніпро» и др.).
Последняя книга, в которой львиная доля переводов принадлежит Тамаре Юковой, называлась «Нескорені» (Молодь, 1982). В следующем году мама умерла. «Нескорені» — эпитет не только героического чилийского народа, боровшегося за свою независимость, но и судьбы моей мамы — удивительной, красивой, независимой и по-настоящему свободной.
Я даже не ожидала, что на вечер придет столько народу. Ведь людей, знавших маму, осталось очень мало. Но осталось что-то иное — любовь к родному Киеву, к искусству, сила и огонь ее личности, красота. Осталось живое слово Поэзии, не гаснущее во времени.
Как будто собралась большая семья — от мала до велика. И восьмилетний Дима Добровольский, и семидесятилетняя Инна Владимировна Пархоменко (искусствовед и неутомимая путешественница), и мои дорогие коллеги: Татьяна Александровна Ялоха, Наталья Алексеевна Школенко, Виктория Викторовна Хоню, Дарья Викторовна Шестакова; и мои замечательные студенты, и любимые друзья: Ира Тополова, Олеся Варкач, и дети друзей, — будто заглянули на огонек в наш гостеприимный дом на Михайловском переулке — просто порадоваться встрече, такой теплой и непринужденной.
Отец Александр (Дмишук), настоятель Обуховского храма Покрова Пресвятой Богородицы, теплым огнем Божьего благословения озарил лица всех братьев и сестер.
Слушали стихи, листали книжки, — все естественно и органично.
Наталья Фролова — «маленькая хозяйка большого дома» — библиотеки (ведь библиотека и есть самый большой дом, не правда ли?) — окружила вниманием каждого члена большой семьи.
«Красуня» Анечка Онищенко — в ярком испанском костюме — читала стихи Файяда Хамиса по-испански так зажигательно, что казалось, будто моя молодая мама прилетела сюда из своего далека.
Тамара Шестакова — удивительный педагог и режиссер, выпускница ГИТИСа, с молодыми актрисами своего театра — Дашей Шестаковой, Катей Ивановой и Вероникой Шкробтак -показали маленький спектакль. Они читали одно мое стихотворение, но каждая из девушек олицетворяла разные ипостаси лирической темы: Веры, Надежды, Любви.
А скрипачка Леона Кругликова с невероятным артистическим вдохновением представила стихотворение «Душа и звук» так, будто прожила перед нами целую жизнь.
Я тоже читала свои стихи, посвященные маме и Киеву, и отрывки автобиографической прозы, которые, даст Бог, войдут в новую книгу «Зеленая карпатская тетрадь» (некоторые из них я покажу ниже), но не это главное.
Главное, что нас объединяло — родство. Родство «по слову», по духу. Как мы все по нему скучаем! Как его не хватает в нашем суетном, бегущем, кричащем мире! Родства родных.
В конце вечера ко мне подошла моя студентка Яся, и с заплаканными глазами сказала: «Спасибо Вам, Маргарита Марковна! Пойду звонить маме!»
Остров Куба
В детстве мне казалось, что Куба — это остров, который только-только выплыл из океана. Революция (1959-го года) — это то, до чего времени не было. И как там сразу могли появиться взрослые люди, мне не было понятно. Взрослые кубинцы приезжали к нам, вернее, к маме, и привозили с собой бесконечный праздник — «кубинский карнавал». Этим понятием можно объяснить всю Кубу.
Правда, сами кубинцы не были настоящими взрослыми, они были такими же детьми, как я в семь лет. Мы бежим по круглым коридорам киевского (обожаемого, лучшего в мире) цирка, и над моим ухом звенят веселые слова Pronto, Pronto. Это звуки радости долетают из-под черных усов бегущего еще быстрей, еще pront-ее меня смуглого мужчины, мальчишки. Он держит меня за руку, и мы несемся как лошадки по кругу, хохочем, ведь сейчас нам откроют двери, и мы увидим, что представление начинается. Если мне семь лет, значит это 62-й год.
Черноусый Файяд накрепко впаян в память вместе с маминой ученицей, посланницей из прошлого, моей сестрой по званию. Вот пишу, и меня осеняет, что Наташина девичья фамилия Черноусова. Они сидели у нас дома, за одним столом, переливающимся зелеными и розовыми бокалами, рядом: Черноусый и Черноусова. Его звали Файяд Хамис. Мама переводила его стихи с испанского на украинский.
Наташа тогда училась в университете у мамы на романо-германском факультете, на испанском отделении. Мама пригласила Файяда на встречу со студентами.
Когда Наташа мне рассказывает о нем, в ее огромных карих глазах горячим светом переливаются все оттенки зеленого и розового.
Вот розовый огонек возмущается:
— Представляешь, у нас на курсе был один троечник (сейчас он деканом умудрился стать), еле учился, но был связан с «той организацией».
Когда Файяд выступал, это несчастье подошло к маме и спросило: «А вам разрешили пригласить этого неизвестного поэта?» Это Файяд неизвестный поэт, можешь себе представить? Подойти к твоей маме, к своему преподавателю и заявить: «Кто разрешил?» Какая наглость, ведь он был всего лишь троечником. Конечно, для него Файяд так и останется неизвестным поэтом. Троечники разве читают? Они деканами становятся.
Файяд — европеец, парижанин, он же учился там, жил долгое время. Голодал, спал под мостами, у него была огромная любовь там, и дочка осталась. Я потом нашла ее книгу об отце, о Париже. Где он сейчас? Трудно сказать. Он позднее снова на Кубу вернулся, много книг вышло, но не могу найти его следов. Ни слова о нем. Раньше в кубинских журналах еще мелькало его имя, а теперь — как корова языком слизала. Где он сейчас? Может, он в тюрьме сидит, или нет его.
А мне кажется, что «остров зари багровой» снова канул в океан, как будто и не выныривал в 59-м. И никто не пел «adelante, Cubanos!» и не размахивал флажками кубинской вечной дружбы в 63-м, когда Фидель Кастро приезжал в Киев, бессмертный barbudos.
Файяд подарил маме гравюру своего друга, кубинского художника Рене Портокарреро. Он известен с чужих слов, словно давно прошедшее время — плюсквамперфект да плюс к нам не повернутое (много позже я узнала, что он знаменит не только на Кубе). Но он повернут в нашу сторону профилем индейца в цветах и листьях, и за больше чем тридцать лет, что индеец провисел в доме, он приобрел статус почти родственника. Его лицо стало неотъемлемым от взгляда, скользящего по стене, от руки, что протирает запыленное стекло, от лица Файяда, которого почти не помню, и от лица мамы, которая помнит и их и нас.
А в альбоме репродукций Рене Портокарреро, затерявшегося в глубинах книжных полок, один из его индейцев так похож на нашего, что вполне сойдет за родного брата. Вот и растет семья в цветах и листьях.
«Если ты уйдешь»
«Si te va» — играют на Крещатике латиноамериканцы в пончо. Перуанцы, скорее всего. Что-то индейское в лицах, льющийся испанский, и маленькая белоголовая девушка, тоже в пончо, но совсем-совсем наша, преисполненная музыки и причастности к искусству, предлагает стоящим кружком слушателям кассеты с записью этих смуглых мальчишек. «Si te va» — «если ты уйдешь», — с трудом припоминаю словосочетание из другой, любимой маминой песни. Там музыка совсем другая. А слова те же. Детвора танцует.
Крещатик отдыхает, машины по выходным ищут другие пути.
Мамина Латинская Америка вышла на ее любимую улицу. Мама должна это слышать. Мама это слышит? Как далеко, Боже, как все далеко.
И все же — если хоть миллиметр надежды проскальзывает невидимой искрой-то, может, может, она слышит тень этих трех слов. «Si te va». Если ты уйдешь, мама, если ты еще не совсем ушла. Может, дослушаешь мелодию.
Собрать бы эти звуки и отправить в кулечке вместе с черешнями. Вот оно, старое дерево, стерегущее дом, — подать рукой, протяни лишь руку, время протяни, продли, продли Si te va.
А кто сказал, что время не может по спирали закрутиться в другую сторону. Может, есть у него свой магнит, свои остановки неуходимые.
Если ты уйдешь, то пусть это только возможность, пока ты здесь, не уходи.
Пальма — дерево пустыни
Моя мама ходила со скоростью десять знакомых в час. Всегда и везде опаздывала, но чувствовала себя при этом независимо. Она была гордая и красивая. Высокая. Вокруг ее лица пульсировало сияние, бьющее через край обаяние.
Белозубая улыбка расходилась не по лицу, а выступала вперед, к собеседнику, как будто лампочку зажигали. Хотя в ее чертах и не было той классической ясности канона, но огонь, но страсть что-то делали с ней и с людьми, которые останавливали ее на улицах.
Имя Тамара подходило к ней окончательно — пальма. Стройная, одинокая. В ней было обещание: оно манило, но не исполнялось. Пальма — дерево пустыни. Ну и что — все смотрят на тебя снизу верх, что с того. Где тот, кто вровень, где тот расправляющий ветви-листья Ветер? Не нашелся.
Чайка в полете
На Русановке был когда-то кинотеатр «Краков». В семидесятые он представлял собой мировую цивилизацию. Ходили все. На все фильмы. Через день.
Мама переводила латиноамериканских поэтов, и среди ее многочисленных друзей были кубинцы всех мастей, вернее всех оттенков кожи: от кофе с молоком до шоколада с изюмом. Часто они бывали у нас дома. Однажды с тремя из них Тамара Юкова гордо продефилировала в «Кракоов» (так мы его шутливо называли) и величественно воссела посередине зала. Пальма в Африке.
Мелкое мужское население нашего подъезда, не дотягивавшее маме ни до плеча, ни до ее снисходительного внимания, потеряло дар речи.
Зато потом, на нейтральной территории, друг с другом, на «доплечном» уровне перемыло кубинцам кости так, что «кофе» и «шоколады», услышь они версии ошарашенных соседей, приобрели бы цвет топленого молока. А маме нипочем. Она никогда не ориентировалась на то, что «скажет княгиня Марья Алексевна».
Голубая машина
Немцы отступали, и приказали всем киевлянам покинуть город. Бабушка с маленькой мамой, со старенькими тетями и семьей друзей Бородиных вынуждены были искать пристанище. Они ушли пешком в Ворзель. Там они провели несколько дней.
Наши войска были уже близко. Рано утром на рассвете моя мама, тогда двенадцатилетняя девочка, выбежала из дома на дорогу. Она сказала бабушке, что вышла встречать папу.
(Дедушка был на фронте с сорок первого. Он служил связистом в звании майора).
— Папа, папа едет в той голубой машине!
В предрассветном тумане еще ничего не было видно — ни дороги, ни машин.
Бабушка не успела сказать ни слова, только повела плечами, вздохнула. Дочка ждет любимого отца, разве можно перечить такому чувству.
Но издалека донеслись приглушенные звуки моторов. Сумерки уплотнились, и отделились от леса темной колонной. Колонна машин медленно приближалась. И вдруг одна из них остановилась прямо у крыльца дома.
Двери кабины открылись, и с подножки прыгнул высокий военный.
— Папа! Папа!
Тамара кинулась ему в объятия.
Это действительно был папа.
Все застыли в молчании. Никто не мог поверить, что такая встреча возможна.
Он действительно приехал на голубой машине, мой дорогой, мой единственный, мой самый верный друг, мой деда.
Мне кажется, что я тоже встречала его в это утро — стройного, темноглазого майора с черной щеточкой усов, — надежного и настоящего Папу.
Сколько я потом ни расспрашивала маму, как она догадалась про голубую машину, внятного объяснения так и не услышала.
— Просто знала внутри. Просто знала: там папа.
И мама всегда при этих словах смахивала слезу.
Прага
Я с детства обожала пражский торт.
Еще когда-то мама бывала там с моим отцом.
А больше никаких воспоминаний.
Одни предчувствия, и те — немного сбоку.
Однажды в октябре
Мой муж принес домой газету
И сказал: «Смотри, Михайловский».
«Собор?» — мелькнуло в голове.
В то время шло второе
Строительство собора.
Сердце ликовало.
Этот храм
Своим отсутствием
Мне отравил все детство. На его
Могиле, могиле Златоверхого собора
Был корт.
А маме нравилось, когда играют в теннис:
«Пускай ребенок учится манерам —
Все аристократы
Играют в теннис».
(Но маме не в пример, мой
Аристократизм не получился).
А тренер равнодушный
Не разделял глубоких убеждений мамы:
Забыл меня, как только увидал,
Вручил ракетку и поставил к стенке.
Не так буквально, сзади не стреляли,
А я сама вколачивала в доски
Упругий мячик. Скучно.
Мне с собой
Еще не очень было интересно.
Но Бог уже следил за всем
С рассыпанных мозаик
И сбитых фресок.
Бог — великий режиссер,
И ставил мне судьбу заранее:
Сначала — порадуйся себе, а после
Научишься другого понимать.
Дом бабушки был рядом,
В переулке
С хорошей памятью:
О взорванном соборе переулок
Хранил их общее большое имя —
Михайловский.
«Собор?» — спросила я у мужа,
Когда он протянул газету. — «Нет.
Там переулок твой. Смотри, твой дом».
А я читаю: «Пражская весна. Год шестьдесят восьмой».
И фотография с моим когда-то домом.
С ним обошлись позднее, как с собором.
Новым господам
Места такие нравятся: и центр, и тихо,
Хотя на Прагу больше не похоже.
Снимали сверху, с лестницы.
Такой же снимок,
Начала века (прошлого)
Есть на обложке книги, посвященной
Булгакову и Киеву тех лет,
Когда Николка прятал пистолет
В проеме между двух домов-
Но это дальше.
И еще когда-то
Мой друг-москвич
Сказал, что в Киеве он любит переулок,
Который «идет-идет, а после —
Обрыв, и снова переулок».
«Там лестница», — сказала я.
«Да, точно. Ты знаешь это место?»
«Я там жила».
Как жаль, что мы не встретились, когда
Ты был готов принять мой город.
Хотя, кто может знать,
Что встреча, что не встреча?
Тем более что ты
Любил мой переулок,
А, значит, и меня. Иначе
Зачем тебе там было хорошо?
Пока влюблен,
В какие только знаки не поверишь.
Но лестница, и, правда,
Была особенной.
Шекспировской — не меньше.
С гранитными ступенями,
Что стены Эльсинора.
Там, помню, все коленки содраны до крови,
Когда сбегаешь вниз поймать
Свой детский парашютик-
Тогда я не успела, не поймала.
Но снимок удержал меня, и детство, и весну.
И в Киеве, и в Праге.
Издалека сейчас
Вкус этих городов мне кажется таким похожим:
Свежим, сладким.
Под окнами стоит машина «Волга»,
Немного под углом,
Я узнаю ее по жесту, — точно, наша, —
Там переулок падает немного,
И мама, чтоб машина не катилась,
Всегда ее так ставила.
Так, значит, мама дома.
И бабушка уже накрыла стол.
И там все живы.
Фотограф сверху снимает переулок.
Тридцать лет прошло,
Чтобы прибавилось весны и Праги.
Ну, здравствуй, мама. Здравствуй, бабушка.
«Какое
Число сегодня, ты не помнишь?», —
Спросила я у мужа. — «Третье
Октября». В груди похолодело.
Сегодня
День смерти бабушки.
Вниманье к датам — жест небытия
Навстречу нам, попытка удержать
В ладонях памяти немыслимое время,
Перевести его в рифмованные строчки,
Вздрогнуть:
В начале октября — о бабушке, в начале
Ноября — о маме,
В начале сентября — о дочке.
Какая поэтесса смерть, какая
Изысканность в ритмичности сложений,
Какая музыка печальная звучит.
Я вижу
Прозрачную, всю в листьях, партитуру,
И наши лица проступают в нотах,
Все наши лица на одном листе.
Под сводами святого Николая,
Микулаша по-чешски, в центре Праги,
Взлетают «Реквиема» крылья золотые,
И сердце по латыни плачет вслед
Всем тем, кто это сердце не покинул.
И легконогий Моцарт где-то рядом
Насвистывает песню Дон-Жуана.
А друг Володя, скульптор, упоенный
Барочной пластикой и музыкой трагичной,
Взволнованный величием пространства,
Сказал: «Как славно мы повеселились!»
Да, «Реквиема» тайное веселье,
Нерастворимый жемчуг наслажденья
Легко нести по пражским тротуарам.
Потом я видела, как чешка молодая
Шла в магазин ликующей походкой,
Размахивая весело корзинкой.
Что там? Я сунула свой нос,
А там не что, а кто — совсем манюня,
Недели две младенчику в корзинке.
Вот это чистый Моцарт.
Здравствуй, здравствуй, Прага.
Какой спокойный, протяжный взгляд
Фотограф развернул над лестницей старинной,
Одним щелчком разбередил пространство,
Продлил моим любимым бытие,
Одушевил их тайные движенья,
Озвучил голоса.
Мы с мужем
Смотрим сверху вниз на город,
(Он пишет крыши).
И не поймем,
Какой же это город,
Какое время падает дождем
На холст промокший, башни, чей пейзаж
Под кистью оживет, чьи лица
На нем когда-нибудь проявятся потом.
Маме
Мама. Как одиноко.
Это уже не полночь.
Стало поздней и дольше
Времени.
Синий сквозняк
Втягивает звезды.
Гасит недолгий свет.
Мама. Ты одинока?
Кто я? Ты помнишь, кто я?
Старый рояль у входа
В комнату.
Мы вдвоем.
Вспыхивают ноты.
Учишь меня играть.
Мама. Где одиноче?
Не закрывай рояля.
Пусть эти белые ноты
Полночью будут гореть.
Мама. Как дальше, мама?
Чья это музыка, ма?
***
— Мама, как много деревьев тут!
Мама, куда деревья растут?
Как листья осенние, дочкин смех
Вспыхнул, взметнувшись по веткам верх,
И поднялись, встрепенувшись, цветы:
— Доченька, все мы, куда и ты:
Крыльями, ветками, песней, листом
Медленно, больно в небо растем.














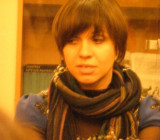

Комментарии
Беспредельность бытия и торжество памяти...
Наталья Трясцина, 12/11/2011 - 19:28
Победа духа над тленом и временем - все эти аккорды я услышала, читая Вашу статью, Маргарита. Чувственные яркие образы и жизненные эпизоды. Спасибо большое!
Да, так хотелось побороться со временем
Маргарита Черненко, 13/11/2011 - 00:26
Спасибо, Наталья, что услышали именно то, что хотелось сохранить и донести хоть капельку тем, кто только готовится к большим испытаниям, и поддержать тех, кто уже знает.
Спасибо за поддержку!
Как трогательно Вы маму свою
Инна Сапега, 12/11/2011 - 11:28
Как трогательно Вы маму свою любите, Маргарита. и в этом тоже - её заслуга.рада, что прочитала
Спасибо Вам, Инна, за чистоту!
Маргарита Черненко, 13/11/2011 - 00:32
Честно говоря, до трогательности мне и сейчас далеко. Мы с мамой уже больше тридцати лет в Большой разлуке, а до этого тоже было много драматизма. и ТОЛЬКО благодаря Богу наша любовь стала почти настоящей. Ой, как это трудно! Инночка, но спасибо Вам огромное, что Вы заметили сияющую вершину горы! А дороги через леса и болота, даст Бог, останутся невидимыми и забытыми.
Спасибо Вам за участие!
С любовью
Маргарита
Замечательная мама. Люблю и
Ирина Богданова, 12/11/2011 - 01:12
Замечательная мама. Люблю и Прагу, и Кубу. Всё близко и дорого. А история про папу и вовсе поразительная.
Спасибо, Ирина!
Маргарита Черненко, 13/11/2011 - 00:33
За участие и за любовь!
Светлая память Вашей маме! И
Юлия Санникова, 12/11/2011 - 00:56
Светлая память Вашей маме! И спасибо за такой интересный и с любовью написанный очерк!
Юлечка, благодарна Вам
Маргарита Черненко, 13/11/2011 - 00:35
за участие и внимание!
Дай Вам Бог любви и радости!
Ваша Маргарита
Светлая память Вашей маме,
Алла Немцова, 11/11/2011 - 23:05
Светлая память Вашей маме, Маргарита.
А ведь в те же 50-е годы в Киевском университете на филфаке училась моя тётя. Только специализировалась она на украинской литературе. Не исключено, что они были знакомы.
Спасибо, Алла, за участие
Маргарита Черненко, 12/11/2011 - 00:31
и внимание! Очень тронута!
А как интересно с тетей! Как ее звали, может, память что подскажет? Наверняка они были знакомы.
У меня был один интересный случай. Когда-то я учасвтвовала в одной радиопрограмме, и упомянула имя моей мамы. Что Вы думаете? После передачи позвонила одна дама, и сказала, что знала Тамару Васильевну. Мы потом с Ниной Петровной подружились. Так что чудеса случаются.
Еще раз спасибо за отклик!
Радости Вам!
Тётю звали Зинаида
Алла Немцова, 12/11/2011 - 00:38
Тётю звали Зинаида Владимировна Цапенко. Точные годы учебы я не знаю, слышала, что в первой половине 50-х гг училась. Мир тесен, теснее, чем нам иногда кажется.
Ну, вот и мы
Светлана Коппел-Ковтун, 11/11/2011 - 21:44
Ну, вот и мы побывали на вечере! С мамой познакомились, погуляли по страничкам памяти о ней. Не " со скоростью десять знакомых в час", конечно, но кое-кого знакомого увидели Фотографии передают теплую атмосферу вечера.
Фотографии передают теплую атмосферу вечера.
Поздравляю!!!
И как же вы всё-таки похожи с мамой.
Светланка, ты там тоже была
Маргарита Черненко, 11/11/2011 - 21:52
Я просто тебя чувствовала рядом-рядом. Мне даже кажется, что ты со всеми моими друзьями, и студентами, и коллегами знакома. Наверно, так и есть.
Наконец-то я "домучила" вставку фотографий, почему-то не загружались сразу все, пришлось по одной добавлять. Но это, видимо, для того, чтобы растянуть удовльствие и продлить радость встречи...
Спасибо, родная, за участие!
С любовью
М.
Медленно, больно в небо растем
Светлана Коппел-Ковтун, 11/11/2011 - 22:32
Рита, а что ты имеешь в виду под "не загружались все сразу"? В принципе, по одной вставляешь и загружаешь: каждая фотка в отдельной форме. Когда все загружены - сохраняешь. Так ты делала? Или сохраняла страничку после каждой фотки? Если второе, то что-то не так. Таких проблем быть не должно.
Последнее стихотворение мне очень нравится:
Крыльями, ветками, песней, листом
Медленно, больно в небо растем.
Сохраняла страничку
Маргарита Черненко, 12/11/2011 - 00:27
после каждой фотки. Потому что, когда пробовала все - кто-то страшный вверху писал, что вы, мол-де, не от того пользователя работаете (или пишете)... И только большой любовью двигалась моя рука, когда каждый раз сохраняла страничку. Ну, не беда! Но, если кто другой, менее терпеливый попадется? Если можно, проверьте...
Спасибо, Светуля, за теплые слова о стихах!
С любовью
М.
Да, странно
Светлана Коппел-Ковтун, 12/11/2011 - 02:05
Андрей смотрел, вроде всё в порядке. Завтра еще "поиграется". Надо бы, чтобы ещё кто-нибудь попытался загружать фотки (можно к какому-то давно опубликованному тексту, а потом удалить их). Может и браузер "шалит".
В любом случае, поищем