Талант предвиденья
Михаил Светлов в свойственной ему шутливой манере однажды произнес:
— Мне кажется, что я обнаружил в себе способности ясновидца. Судите сами. В свое время я написал «Гренаду». А ровно через десять лет в Испании вспыхнула гражданская война. И наши добровольцы устремились туда — сражаться на стороне антифашистов. Наивная мечта моего романтического хлопца стала явью. Затем я написал для одного фильма песню о Каховке. И что же? Впоследствии там стали сооружать грандиозную электростанцию. По-моему, политики, строя свои дальнейшие планы должны советоваться со мной. Но они почему-то с этим не спешат. — Сказано не всерьез, с присущей Михаилу Аркадьевичу самоиронией.
Но шутки шутками, а читатели не раз убеждались в том, что большим художникам дана особая прозорливость. Это свойство, чаще всего неосознанное, вызвано остротой воображения, интуитивным дальновидением.
Вспомним хрестоматийные примеры. Блоку задолго до первой воздушной бомбардировки пригрезился «ночной летун во мгле ненастной земле несущий динамит». Андрей Белый в поэме «Первое свидание», написанной в самом начале двадцатых, предсказал появление грозной ядерной энергии: «Фантомный бес, атомный вес, огромных космосов волна». Даже терминология в какой-то мере предугадана. Маяковский, предощущая неизбежность революционного взрыва, писал: «Грядет шестнадцатый год». Дата назначена почти точно.
Откроем сборник Марины Цветаевой «Лебединый стан». Страстно звучит ее заклинание:

За отрока, за Голубя, за Сына
За царевича младого Алексия
Помолись, церковная Россия.
Очи ангельские вытри,
Вспомни, как пал на плиты
Голубь углицкий Димитрий.
…Грех отцовский не карай на сыне,
Охрани, крестьянская Россия
Царскосельского ягненка Алексия.
Под стихотворением дата — «4 апреля 1917. Третий день Пасхи». Пронзительные эти строки написаны почти за полтора года до кровопролития в Ипатьевском доме!
Пастернак в своей известной поэме подарил ясновидческие слова лейтенанту Шмидту, обращенные обвиняемым к своим судьям:
Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, — мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.
В этой тираде заключен двойной смысл. Найден тончайший поэтический ход. Слова Шмидта относились скорее к будущему. Строки Пастернака, написанные два десятилетия спустя, читаются как иносказание, адресованное наступающим годам. Октябрьская революция вот-вот начнет пожирать собственных детей. Палачи, которые в тридцатых пошлют на смерть невинных людей, вскоре сами отправятся вслед за ними. Удивительная прозорливость поэта. Поразительное решение — вложить в уста Шмидта то, что нельзя напрямую высказать сегодня.
Да не удивится читатель, что я привлекаю его внимание к поэту ныне несправедливо забытому. К Владимиру Луговскому, чьи запасники отнюдь не пусты.

Да, у него в стихах было немало риторики и бравады, хватало и конформизма. Но остались его лирические удачи. Они есть в его ранних сборниках, в книге «Солнцеворот», в лучших главах «Середины века». Наконец, прекрасна его поэма «Алайский рынок». Опубликованная посмертно, она открыла нам другого поэта. В этом творении, написанном «в стол», на излете жизни, щедро соединились порывистое покаяние и талантливое искупление прежних грехов. Критики эту вещь, конечно, проглядели. Зато ее высоко оценил Евтушенко и включил в свою антологию «Строфы века». Но сейчас я хочу напомнить раннее стихотворение Луговского «Кухня времени», посвященное Багрицкому. Созданное в двадцать девятом году, оно поражает неожиданным для того времени предсказанием:
Мы в дикую стужу, в разгромленной мгле
Стоим на летящей куда-то земле,
Философ, солдат и калека.
Над нами восходит кровавой звездой
И свастикой черной, и ночью седой
Средина двадцатого века.
Как точно и жестко найдено метафорическое определение бедствий, ожидавших нас в грядущие десятилетия — черная свастика и кровавая звезда. А ведь эти строки написаны поэтом, тогда вполне лояльным к окружающей реальности. Поразительный образец непредсказуемого озарения, художнической интуиции.
Но обратимся к временам не столь отдаленным, хотя по нынешним временам тоже довольно давним.
Как сегодняшнее звучит стихотворение Леонида Мартынова, написанное в 1960 году:

Где-то там испортился реактор
И частиц каких-то напустил.
Известил о том один редактор,
А другой
Не известил.
И какой-то диктор
Что-то крикнул,
А другой об этом ни гу-гу.
Впрочем, если б
И никто не пикнул,
Я молчать об этом не смогу.
Легко подсчитать, что эти тревожные строки возникли более чем за четверть века до чернобыльской катастрофы.
Вот еще одно давнее мартыновское стихотворение «Обещания», звучащее и ныне злободневно:
Обещают,
Обещают
Быть сердечней,
Быть гуманней.
Никогда
Не обнищают
На вещанье обещанья.
… Нету берега песчанней
Бесконечных обещаний,
Нет печальней и туманней
Этих вечных обещаний.
А разве не сегодняшним «левым» депутатам Думы адресованы такие строки того же Мартынова:
Хотят обратно повернуть:
— Авось удастся.
Направленный в обратный путь
Корабль затрясся.
... Как будто новый курс берет,
Но в самом деле
Он движется кормой вперед
Всё к той же цели.
… Хотят обратно повернуть,
Но поздно, поздно!
Естественно, что поэты в своих предощущениях не могут обойти и самую близкую им сферу — будущее литературы и смежных искусств.
Вот пример не менее разительный — стихотворение Новеллы Матвеевой, обращенное к будущему собрату по творческим исканиям:

Не пиши, не пиши, не печатай
Хриплых книг, прославляющих плоть.
От козлиной ноги волосатой
Упаси твою лиру Господь.
Не записывай рык на пластинку
И не шли
К отдаленной звезде
В серебристую дымку
Инстинкты
И бурчанье в твоем животе.
Грядущему приверженцу «козлоногости» дается резкий совет:
…Бедный мастер,
Закинь карандаш!
Отползай поскорее к затону,
Отрасти себе жабры и хвост,
Ибо путь от Платона к планктону
И от Фидия к мидии — прост.
Это написано тоже в шестидесятых. За прошедшие десятилетия стихотворное предостережение обрело новую силу. Опасения сбылись. Пестрые обложки эротически-детективного чтива, крикливая «попса», заполонившая телеэкран и радио, пошлость, спрессованная в компакт-диски, ежедневно напоминают о мудрой дальновидности Матвеевой. Путь от Платона к планктону пройден стремительно. Слово искусство заменено понятием шоу-бизнес. Вместо артиста появился шоумэн. Бездумные, но агрессивные романы пекутся мгновенно, как шашлыки на рыночных мангалах. Чувство заслонено инстинктом.
Мольба поэта не всеми услышана. Но феномен художнической проницательности необорим. Как непобедима и наша многострадальная культура. А эпидемия безвкусия и вульгарности, фальшивый блеск «раскрученных звезд» — весь этот балаган, будем надеяться, сам себя изживет. Он уже начинает осточертевать даже былым поклонникам — телевизор все чаще выключается.
Бесконечен перечень вспышек поэтической прозорливости. Они существуют. В них может даже почудиться нечто колдовское. Но истинное творчество всегда — волшебство, будь то стихи Цветаевой, музыка Скрябина, проза Булгакова, фильмы Андрея Тарковского.
Созданное «на все времена» включает в себя и дар предчувствия. И нередко этот дар оборачивается личным трагизмом, ибо он может коснуться и собственной судьбы. Но об этом — в следующей главе.
Цена прозорливости
В мемуарном очерке Евгения Евтушенко о Пастернаке приводятся слова Бориса Леонидовича, прозвучавшие как наказ молодому поэту: «Никогда не предсказывайте

свою трагическую смерть, ибо сила слова такова, что она самовнушением приведет вас к предсказанной гибели. Вспомните хотя бы, как неосторожны были со своими предсказаниями Есенин и Маяковский».
Пастернак мог бы обратиться и к скорбному опыту Пушкина и Лермонтова, предсказавших собственную гибель на дуэли в своих творениях. Он ограничился современными классиками. Но впоследствии сам нарушил свое предупреждение, написав несравненный «Август», во всех деталях разглядев свое будущее прощание с миром.
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по-старому,
Преображение господне.
…В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.
Строки поэтов, проникнутые предощущением своего ухода, поражают жестокой точностью обстоятельств. Как тут не вспомнить стихотворение Гумилева «Рабочий»:
…Все его товарищи заснули,
Только он один еще не спит,
Всё он занят, отливая пулю,
Что меня с землею разлучит.

…Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву.
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.
Тот же траурный мотив звучит в стихотворении «Ты и я»:
И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.
Плюща не было. Но пыльная и мятая трава у дикой щели близ деревни Бернгардовка — последнее, что увидел Гумилев в августе двадцать первого.
Андрей Белый двадцати семи лет от роду, пройдя ровно половину отмеренного ему жизненного пути, написал в Париже автоэпитафию, в которой безошибочно предсказал причину своего конца:
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
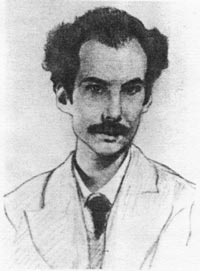
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Если парижские строки не раз цитировались, то не меньшей прозорливостью отличается и не столь популярное стихотворение, написанное два года спустя, озаглавленное «Светлая смерть»:
Тяжелый сверкающий кубок
Я выпил. Земля убежала —
Всё рухнуло вниз: под ногами
Пространство холодное, воздух.
Остался в старинном пространстве
Мой кубок сверкающий — Солнце.
Образ животворного, но порой и гибельно обжигающего светила вспыхнул в сознании поэта еще в начале века. Андрей Белый скончался от последствий солнечного удара, полученного в любимом Коктебеле. Было ему пятьдесят четыре года.
Название своей книги «Tristia», увидевшей свет в 1921 г., Мандельштам заимствовал у Овидия. Так именовался свод «Скорбных элегий», в которых ссыльный поэт жаловался на судьбу и молил о возвращении в Рим. Осип Эмильевич этим названием словно определил и свою дальнейшую судьбу. У него появились впоследствии собственные скорбные элегии:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж;
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж — блажь,
Воронеж — ворон, нож.
В пору, когда ему уже была знакома тощая сума, но еще не грозила тюрьма, Осип Эмильевич написал поражающие, если не прозорливостью, то остротой интуиции, трагические строки. Вспомним знаменитое откровение: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез…» и обратим внимание на его концовку:
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Дата — тридцатый год. Финал стихотворения звучит, как иносказание-предсказание. Возможно, подсознательное. Ярость ночного звонка, обреченное ожидание, дверные цепочки, превращающиеся в кандальные цепи. Беспощадная образность исстрадавшегося провидца.
О том, что зримость и чуткость этой метафоры не случайна, свидетельствуют две строфы, написанные годом позже:
Колют ресницы, к груди прикипела слеза,
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть,
Душно, и всё-таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно ещё озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поёт
В час, как полоской заря над острогом встаёт.
Такое же смутное чувство неизбежной беды, пусть на сей раз не личной, диктует поэту строки стихотворения «Фаэтонщик», помеченное двумя датами: «17-18 марта 1931 — конец 1935». Вторая дата уже вобрала Чердынь и Воронеж, но действие «Фаэтонщика» перенесено в другое памятное место. Горный ландшафт, Закавказье. Автора везет безрассудный кучер, который, «словно дьявола поденщик», судорожно гонит коляску неведомо куда, издавая непонятные возгласы, явно накликая несчастье:
… И пошли, пошли разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы.
Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мёртвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горе похоронен.
И бесстыдно розовеют
Обнажённые дома,
А над ними неба мреет
Тёмно-синяя чума.
Здесь словно бы предугадывается братоубийство, которое вспыхнуло на фоне этих гор в конце двадцатого века. Во всяком случае, сегодняшний читатель ощутит между строк именно эту неожиданную тревогу.
В июне 1931 года Осип Эмильевич написал еще одно знаменательное стихотворение, в котором обычно выделяется строка: «Мне на плечи кидается век-волкодав»… Но самое главное мы находим в завершающей строфе:
Уведи меня в ночь,
где течёт Енисей
И сосна до звезды достаёт,
Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьёт.
Если Пастернак в строфах «Августа» не угадал только месяц своего ухода, Мандельштам допустил просчет в пространстве — его увели много дальше Енисея, в район Владивостока. В остальном он безошибочен. Пусть не волкодавов пришлось видеть поэту на этапах, а конвойных овчарок, приученных перегрызать горло провинившемуся зэку. Разве эти натренированные псы не тот же символ века? Точен Осип Эмильевич и в другом — он пал жертвой не зверя, а равных, если таковыми можно считать нелюдей-служителей Гулага.
Случается так, что не только собственные стихи, но и переводы опасны, если они воспроизводят самопредсказание иноязычного поэта. После кончины Иосифа Бродского в газетах цитировали роковые строки из переведенного им Томаса Элиота:
Он умер в январе, в начале года.
Под фонарём стоял мороз у входа,
Не успевала показать природа
Ему своих красот кордебалет.
От снега стёкла становились уже,
Под фонарём стоял глашатай стужи
И дверь он запер на цепочку лет.
Значит, предостережение Бориса Леонидовича всеобъемлюще. Личная судьба может отразиться и в переложении. Бродский скончался в январе, в начале года, когда глашатай стужи по-элиотовски запер дверь поэта на цепочку лет…
Раз уж мы коснулись и разноязычных авторов, вспомним Тициана Табидзе, который в день свадьбы своего друга Паоло Яшвили посвятил ему сонет (перевод Б. Пастернака). Даже в этом праздничном обращении прозвучала дальновидная драматическая нота:
Вот мой сонет. Мой свадебный подарок,
Мы близнецы во всём, всегда до гроба.
Грузинский полдень будет так же ярок,
Когда от песен мы погибнем оба.
Судьба Табидзе и Яшвили печально известна.
А теперь послушаем великого испанца Лорку. Он писал: «Я хочу быть поэтом с головы до ног, рожденным поэзией и погибшим от поэзии». А в своем стихотворении «Прощаюсь у края дороги…» он заранее запечатлел даже место расставания с жизнью.
Прощаюсь у края дороги.
Иною, нездешней дорогой
Уйду с перепутья
Будить невеселую память
О чёрной минуте.
Обочина шоссе близ Гренады совпала в глухую ночь с последней минутой его земного существования. Как и его грузинские собратья Лорка погиб потому, что был художником, не принимавшим диктата. Тициан и Паоло стали жертвами чекистов, Федерико пал от пули фалангиста, ибо все трое служили своему искусству и насущной свободе. И готовы были заплатить за это жизнью.
Но, дабы не завершать этот очерк на скорбной ноте, обратимся к противоположному феномену прозорливости. Начиная жить стихом, Мандельштам уже осознает свое предназначение. И это — счастливое свойство, придающее таланту силы для своего развития.
В строках о детстве, датированных 1908-1909 годами, Осип Эмильевич утверждал:
Я в зыбке качаюсь дремотно,
И мудро безмолвствую я:
Решается бесповоротно
Грядущая вечность моя.
А Пастернак в самую трудную пору своей жизни, в 1958 году, был уверен:
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
Можно бы продолжить перечень образцов художественной зоркости, но, пожалуй, достаточно и приведенных. В последних строфах перед нами две воспламененные души, чьи откровения и щедроты непрестанно способствуют нашему самоочищению. А это означает, что им даровано бессмертие, что грядущая их вечность решена бесповоротно. Как и необоримое будущее других страстотерпцев, рожденных поэзией и заплативших жестокую цену за свою верность ей.
Среди миров, в мерцании светил…
Однажды на очередные занятия литературной студии, которую я посещал, будучи еще киевским школьником, наш наставник Николай Ушаков принес томик стихов, чья обложка была аккуратно обернута папиросной бумагой. Николай Николаевич бережно погладил этот раритет, видимо, тщательно хранимый в домашней библиотеке, и с улыбкой произнес:
— Сегодня я хочу провести эксперимент, рассказать вам об удивительном поэте, имя которого, надо полагать, вам еще незнакомо, да и стихи могут показаться сложноватыми. Но этот замечательный художник оказал заметное влияние на последующих мастеров, творивших в начале века. Впрочем, и сейчас это один из камертонов истинной поэтической мелодики. По мере вашего литературного развития, вы, я надеюсь, познакомитесь с ним глубже. А для начала, давайте просто понаслаждаемся музыкой его творений. И запомните имя — Иннокентий Анненский.

Николай Николаевич высоко поднял над головой книгу:
— То, что я держу в руках, — ныне библиографическая редкость, — сказал он, не без гордости счастливого обладателя.
Сквозь прозрачную оболочку мы прочитали название — «Кипарисовый ларец».
— Наименование книги само по себе поэтично, — продолжил Ушаков, — но происхождение его самое обыденное. Люди, знавшие Иннокентия Федоровича, вспоминают, что у него был настольный ящик из кипарисового дерева, в котором он хранил свои рукописи.
Вряд ли стоит подробно пересказывать то, что поведал нам в тот вечер наш руководитель. Сейчас Анненский достаточно известен. Но тогда, в начале тридцатых, услышанное нами прозвучало свежо и ново. Сразу запомнилось то, что «Кипарисовый ларец» увидел свет после внезапной кончины автора. Иннокентию Федоровичу не довелось дождаться выхода своей книги, принесшей ему заслуженное признание. Впечатлило и то, что печататься поэт начал поздно. Первые публикации в периодике, как и дебютный сборник лирики «Тихие песни», поэт подписал всё тем же псевдонимом «Ник.Т-о».
Нас, тогдашних юнцов, живо заинтересовало немаловажное обстоятельство — поэт, совмещавший творчество с педагогической деятельностью, в конце девятнадцатого века, по окончании Петербургского университета, получил назначение в наш город. Здесь он директорствовал в частном учебном заведении «Коллегия Павла Галагана». Однако в 1893 году, не поладив с почетной попечительницей Екатериной Галаган, вернулся в Питер, где ему предоставили новую должность в одной из столичных гимназий. А в 1896 году поэт был переведен в Царское Село.
На том, каковы были разногласия между директором киевской Коллегии и ее попечительницей, Ушаков останавливаться не стал. Да, вероятно, в ту пору и не обладал точным ответом. Зато чтение стихов Анненского начал с лирической миниатюры «Киевские пещеры», подтверждающей связь поэта с нашим городом, пусть кратковременную, но оставившую след в его памяти. Мы, конечно, бывавшие в печерских катакомбах, сразу оценили точно переданное ощущение человека, совершающего несколько мистическое путешествие по крутым подземным теснинам, где хранятся святые мощи.
За этим последовало несколько «трилистников» и «складней», выбранных Ушаковым для первого знакомства. Николай Николаевич читал негромко, но выразительно, стараясь донести до нас не только смысл, но и гармоничность звучания не всегда доступных, но всё же завораживающих строк.
Завершилось чтение, естественно, шедевром «Среди миров…»: «Среди миров, в мерцании светил одной Звезды я повторяю имя… Не потому, что я Ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, я у Нее одной ищу ответа, не потому, что от Нее светло, а потому, что с Ней не надо света». Помню, что особый наш отклик вызвало это стихотворение, тоже непростое, но уже его-то концовка пленила даже самых неподготовленных. И, расходясь, мы благодарно повторяли: «Не потому, что от Нее светло, а потому, что с Ней не надо света».